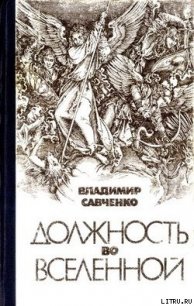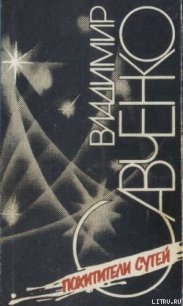Открытие себя (сборник) - Савченко Владимир Иванович (библиотека книг .TXT, .FB2) 📗
— Вспомнил, нашел довод… — укорял он теперь Стасика. — С тех пор мы, я полагаю, повзрослели, поумнели, научились владеть собой. Я так точно. И сейчас, Стась, говорю тебе без дураков, перед тобой сидит диалектический оптимум.
— Это ты, что ли?
— Именно я. Я — физик—квантовик, с теориями пространства—времени знаком постольку—поскольку, для общего развития… хотя и лучше тебя, разумеется. То есть в достаточной степени лучше, чтобы понять суть заметок Тураева, но явно недостаточно, чтобы, даже если следовать твоей с Мельником кошмарной теории, от этого прыгнуть в ящик и захлопнуть над собой крышку. Усвоил?
— Ага. Вообще в твоих доводах что—то есть, — сказал Коломиец. — Мы действительно упростили деление до физиков и нефизи— ков, это примитивно, ты прав. Вот и надо будет найти кого—то с таким диалектическим оптимумом и дать ему на заключение.
— Так ты уже нашел, чудило! Давай… — Борис протянул руку к портфелю.
— Э, нет, Борь, только не тебе! Физиков много, а ты для меня один.
— То есть… ты нахально заимствуешь подсказанную тебе идею, а меня побоку! Не уважаешь… не желаешь уважить меня как специалиста? — Чекан потемнел.
— Да уважаю, не сердись ты! Рискованно же очень.
— Понимаю: заботишься о моей жизни, а заодно, и о своем прокурорском будущем. Ну, так считай, что лично для тебя я уже покойник. Меня не было и нет. Девушка, получите!
Ну, если Борька потребовал счет, это серьезно. Коломиец заколебался:
— Да погоди ты, погоди… Ладно, — он раскрыл портфель, — с собой я тебе их не дам, а здесь прочти. Ты сейчас пьян, многого не усвоишь.
И он начал по листику выдавать Чекану конспект Загурского, а затем и заметки Тураева; прочитанное тотчас забирал назад. Правда, когда дошло до гибельных тураевских листков, Стасик заколебался; но от выпитого в душе распространилась томность и беспечность, недавние сомнения показались ему самому блажью: что от такого может случиться! Недаром же говорят в народе: от слова не станется.
К концу чтения Борис несколько раз поворачивал голову к деревьям за барьером павильона: клену и липе в молодых листиках, смотрел на них с каким—то новым выражением лица.
— Да—а… — протянул он, возвращая Стасю последний лист. Действительно, копнул под самые корни. Есть над чем поломать голову. Совершенно новый поворот темы!
— А конкретней? — придвинулся к нему Коломиец.
— Что — конкретней? Вот теперь возьму и умру, ага!
— Ты так не шути, пока что счет 3:0 не в нашу пользу. По существу можешь что—то сказать?
— Понимаешь… — Борис в затруднении поскреб плохо выбритый подбородок. Так сразу и не выразить. Ну, первую часть этой идеи, что в конспекте Загурского, я и раньше знал. Вся физическая общественность нашего города о ней знает, споров и разговоров было немало. Но ведь это только присказка, вернее сказать, интродукция — а самая—то сказка в последних записях Тураева. Шур Шурыча. Верно, есть там нечто такое… с жутинкой. Да еще и впечатление от его смерти ее усиливает. — Чекан задумался, встряхнул кудлатой головой. — Поэт все—таки был Александр Александрович, именно физик—поэт, физик—лирик, хотя журналисты по скудости ума и противопоставляют одно другому. Он умел глубоко почувствовать физическую мысль, дать зримый и чувственный образ проблемы. И там есть… особенно дерево это. Я вот теперь смотрю, — он снова оглянулся на деревья, — ведь действительно все ветки сходятся с соблюдением законов сохранения "масс" и "импульсов". И где были мои глаза раньше! Вот голова была у человека, а?
— Так ну?.. — вел свое Стась. — Отчего он помер—то?
— Я ж говорю, он был физик—лирик, да еще с креном в гениальность… возможно, от этого, — рассеянно сказал Борис. — Вот как по—твоему, чем был бы Тураев, если отнять от него, от его богатой личности, все привнесенное физикой: знания, идеи, труды… ну, само собой, приобретенные благодаря знаниям—идеям—трудам степени, должности, награды, славу… даже круг друзей и знакомых? Чем? И не тот молодой Саша Тураев, который хотел в летчики пойти, да папа не пустил… интересная, кстати, подробность! — а нынешний, вернее сказать, недавний. А?
— У него был значок "Турист СССР", — подумав, сказал Стась.
— Вот видишь! Теперь понимаешь?
— М—м… нет.
— Вот поэтому ты до сих пор и жив! — Чекан поднялся. — Ну, мир праху физиков—лириков! — Он подал руку Стасику. — За меня можешь не волноваться, лично я физик—циник и ничего на веру не принимаю. Пока!
И удалился задумчивой походкой в сторону проспекта Д. Тонко—пряховой, предоставив Коломийцу расплачиваться за обед; последнее было справедливо, поскольку Стась получал рублей на тридцать больше.
Следователь Коломиец с беспокойством смотрел ему вслед. "Ну, если и с Борькой что—то случится — сожгу бумаги. Сожгу и все, к чертям такое научное наследие!"
Глава третья
Согласно медицине йогов для исцеления какого—то органа надо сосредоточиться на нем и думать: я есть этот орган. Некто пытался таким способом подлечить сердце, сосредоточился… и ошибочно подумал. "Я есть инфаркт".
Хоронили с музыкой.
К. Прутков—инженер. Из цикла "Басни без морали"
Как мы чувствуем мысль?
Мысль материальна. Не вещественна, но материальна; может быть, это какое—то поле, поле информации. Этого, однако, мало: далеко не все материальное мы чувствуем. Не чувствуем, например, вакуум, физическое пространство — необъятный океан материи, в котором подобно льдинкам (или пене?) плавают вещественные тела. Мысль мы тем не менее чувствуем, хоть и непонятно: как и чем? Вот свет мы отличаем от тьмы и один цвет от другого всякими там колбочками—палочками, крестиками—ноликами в сетчатке глаз; звуки от безмолвия — тремя парами ушей: внешними, средними и внутренними. А мысли от бессмыслицы мы отличаем… шут его знает, каким—то волнением души, что ли? Хотя опять же — что есть "душа"? Это термин не для строгих рассуждений. Для научных исследований в ходу термин "психика"; это, правда, та же самая "душа", но по—древнегречески. Древним грекам дано… И все—таки мысль материальна настолько материальна, что тем же диковинным прибором, волнением души, мы можем измерить количество мысли (аналог количества информации): серьезная, глубокая мысль вызывает изрядное волнение в душе (в психике? в подкорке?..). Мелкая же, пустяковая мыслишка такого волнения вызывает.
Или, может быть, мера мысли — это мера ее новизны?.. Туманно все это, крайне туманно. Но туманно по той причине, что мы не знаем самих себя.
Борис Чекан лежал на тахте в своей комнатке на первом этаже аспирантского общежития — лежал, уставя взгляд в сумеречный потолок, по которому время от времени проходили световые полосы от проезжавших по улице автомобилей, и тоскливо думал, что эту ночь ему вряд ли удастся пережить.
…Конечно же, он сразу, как сухой песок влагу, впитал все новое из заметок Тураева; расчет Стася, что спьяну он не вникнет, был наивным. В памяти запечатлелось все, хоть цитируй. Но тогда, по первому впечатлению, он воспринял преимущественно образную сторону идеи покойного академика и понял его чувства. Поэтому и высказал Стасику, что Тураев—де был физик—лирик, увлекаемый в неведомое своим чувственным поэтическим воображением, — а его—де, Б. В. Чекана, физика—циника, ниспровергателя основ и авторитетов, этим не проймешь. Знаем мы эти академические штучки!
И проняло. Да и не могло, собственно, не пронять, по той простой причине, что понятия "пространства", "времени", "тел", "энергий", "полей" были для него — с тех пор, как всерьез занялся физикой, — далеко не академическими. Он чувствовал все это, специально тренировал себя, чтобы объять мыслью и воображением физическое пространство вокруг себя — с телами, искривляющим метрику полем тяготения и электромагнитной рябью от радиопередач; логическое, рассудочное восприятие мира для него, как и для Тураева, давно сомкнулось с чувственным.