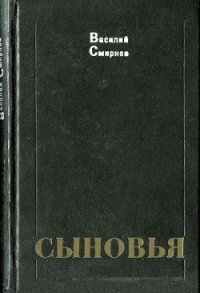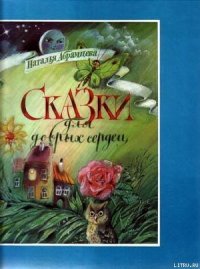Открытие мира (Весь роман в одной книге) (СИ) - Смирнов Василий Александрович (электронные книги без регистрации .txt) 📗
У риги, мигавшей огоньком сквозь дым, который окутывал навес и не расходился, как туман, возле скирд стоял дяденька Никита в полушубке и валенках, обшитых кожей, уронив на плечо тяжелую свою голову в глубоком суконном картузе. Рядом, как жердь, торчал Матвей Сибиряк в распоясанной гимнастерке с распахнутым воротом. Он гладил ладонью колючий бок копны, макушка се касалась его стриженого затылка. Борода Матвея шевелилась, он растроганно бормотал:
— Ну, спасибо… Вот это по — суседски. Выручил!.. Теперь им до рождества хватит хлебца… Обрадовал ты солдата, Никита Петрович. Наградил!
— За глаза хватит, — отвечал Аладьин, стеснительно покашливая и глядя в сторону. — Конечно, она, полоска?то, не лишняя у меня, сам знаешь. Да вижу, кланяется твоя баба Устину, а тот воротит морду. Забыл, прорва, как ты ему, в Сибирь уезжая, полдуши земли уступил… Ну, я и того… Тяжело бабам без мужиков. И лошадей нет. Запустили наделы — перелог на перелоге, глаза бы не глядели. А которые и рады, пользуются, свое и чужое пашут… Нонче, Матвей Карпыч, редко кто ест чистый хлеб. Овес, картошку подмешиваем. А бывает — и дуранду. Навострились стряпухи… Ничего, жевать можно. Говорю тебе — до пасхи протянут. А там — на подножный корм. Проживут!
— Проживут… до пасхи!.. А я горевал. — Матвей все гладил, ласкал ладонью снопы. — По — доброму, по — хорошему проживут… Ах ты светлая душа, Никита Петрович! Кабы все так делали, легче бы было в окопах вшей кормить. Вовек не забу…
Матвей дернул бородой, замолчал, оторвался от копны и неловко, одной рукой обнял дяденьку Никиту. Шурка шмыгнул в ригу.
Сухой горячий хлебный воздух, смешанный с дымом, ударил его на пороге. Он полным ртом с наслаждением хлебнул этого жара, сласти и горечи и, задыхаясь, согнулся, пополз на четвереньках по земляному прохладному полу к печи. Там, у освещенного густым багровым пламенем устья, сидели на полу Марья Бубенец и мать. Обвязанная старой шалюшкой, в складках и дырах которой застряли соломинки и колосья, сгорбившись, как старуха, мать держала на коленях Ванятку, тупо уставясь на огонь. У Шурки не хватило сил ползти дальше. Марья Бубенец, простоволосая, в расстегнутой, с заплатами, душегрейке, морща кирпичное от жара круглое лицо, ворочала клюкой дрова в печи.
— А — а, явился, молодец… к шапочному разбору, — проворчала она, заметив Шурку, и так ударила клюкой по горящим поленьям, что угли вылетели из печи, заскакали по полу.
Мать взглянула на Шурку и ничего не сказала.
Он робко подобрал щепочкой угли, покидал в печь. Отыскал голик и, ползая на коленках, подмел пол, хотя в этом не было никакой надобности. Заметив, что дрова на исходе, сбегал на овинник, притащил большую охапку. И, делая все это, он поглядывал на мать. Ее молчание и радовало и тревожило.
Ванятка сполз с материных колен. Белоголовый, в шапке пушистых волос, как одуванчик, пошатываясь и везя на ногах — палочках мамкины старые валенки, он подошел к Шурке.
— А я калтоску печеную ел… много! — похвастался он, счастливо улыбаясь и протирая кулачком слипающиеся глаза. В кулачке была зажата, как пряник, раздавленная картошина.
Ванятка выпятил под рубашкой живот и похлопал его.
— Эва гола какая. Смотли… камень, — картавил он, позевывая. — Хочес калтосинку, блатик? На!
Шурка погладил Ванятку по голове, заодно утер ему нос и велел управляться самому.
Ванятка разжал кулачок, сыто посмотрел на картошину, вздохнул. Потом, зажмурясь, все?таки отправил ее в рот. Прислонясь к Шуркиному плечу головой — одуванчиком, он засыпал стоя.
Шурка отвел Ванятку к матери. Осмелев, отобрал у Марьи клюку.
Из открытой двери и незаткнутого оконца тянуло снизу свежестью, можно было, наклонясь, дышать и двигаться. Рига топилась по — черному. Стены обросли копотью, как шерстью. Из горловины и отдушин печи валил дым, облаком плыл к двери и окошку. Когда дымная полоса разрывалась, над головой проступали черные колосники — жерди, настланные редко. В широкие щели виднелась солома. На колосниках, плотно, сноп к снопу, комлями вниз, сушилась рожь.
Хотя дрова еще не прогорели, Шурка скоро притворил дверь, заткнул наполовину окошко соломой.
— Не рано ли? — спросила Марья, зевая и крестя рот. — Задохнемся.
— Ничего. Потерпи, тетя Марья, а то убежит тепло, — отозвался Шурка.
— Скажи какой заботливый! А где тебя весь вечер носило? Хо — зя — ин! — насмешливо проговорила Бубенец, толкая локтем мать.
Та пошевелилась, оторвала глаза от огня, взглянула на Шурку и опять промолчала.
— Ну, где носило… дела, — пробормотал невозможным басом Шурка, удесятерив старания.
Забравшись на приступок, он изо всей силы водил жестким голиком по колосникам над печью, сметая сажу и повисшие, просунувшиеся из щелей соломинки, чтобы где не загорелось, грехом. И, делая все это, дыша сухим хлебным жаром и едким осиновым дымом, потея и кашляя, Шурка искоса, тревожно следил за матерью.
Она опустила спящего Ванятку с рук на колени и, слабо, устало покачивая, пристально глядела в устье печи. В голубых неподвижных глазах ее дрожало и колебалось пламя.
Когда дрова в печи разгорались, огонь широким красным языком лизал кирпичи, и тени начинали ползать по стенам риги, лицо матери как?то внезапно розовело, темные брови удивленно, с надеждой приподнимались, словно она видела в печи что?то такое, чего не надеялась никогда увидеть. Озаренная огнем, она загоралась румянцем, нагибалась ближе, в самый жар, и, блестя неподвижными глазами, все всматривалась во что?то, верила и не верила себе, боясь ошибиться.
Но вот дым застилал устье глухой тучей, и лицо матери становилось каменно — серым, брови сходились, на лбу проступали глубокие морщины, похожие на складки старой шалюшки. Глаза у матери гасли. И хотя она по — прежнему упрямо, с отчаянием глядела на огонь, но уже ничего не видела, как слепая.
Шурке стало не по себе. Хоть бы выругала его мамка за баловство, еще лучше — прибила, что он поздно явился в ригу подсоблять, — все было бы легче…
Не такого вечера ожидал он, когда в школе с нетерпением мечтал о риге, снопах ржи и печеной картошке, как о праздничке. Его не занимали теперь хлебный душистый жар и дым, золотой неугомонный огонь в печи, густые тени, бродившие по бревенчатым стенам, неясные шорох и треск на колосниках, за печкой, по темным углам, напоминавшие о нечистой силе. Конечно, нечистая сила — бабьи выдумки, но в другое время и о домовом вспомнить весело, немножко страшно и приятно. Сейчас он беспокойно думал о другом: как бы помочь матери, сделать такое хорошее, чтобы она хоть чуточку ожила, перестала пугать его своим каменным, печально — усталым лицом и слепыми глазами.
— Мам, иди домой, — тихонько, просительно сказал Шурка, присаживаясь на приступок и утираясь рукавом отцова пиджака. — И ты, тетя Марья, иди… Я один управлюсь.
И он бы, конечно, управился, не побоялся остаться в риге, да ему помешали.
Прохладная волна неожиданно набежала от двери. Шурка оглянулся.
В ригу вошел Никита Аладьин. За ним, теснясь, влезали Матвей Сибиряк, пастух Сморчок и Ося Бешеный.
— Пожара мне, бабы, не устроите? — сказал дяденька Никита, становясь на цыпочки, щупая вытянутой рукой снопы.
Осторожно сорвал ближний колосок, растер его на ладони, сдул шелуху себе в нитяную бороду и аккуратно ссыпал зернышки в рот.
Прожевав, распорядился:
— Подкиньте дровишек охапку, и достаточно. За ночь поди как дойдет ржица, хоть цепом не трогай — сама будет молотиться… Ну, гости дорогие, посидите, на чем стоите, понюхайте дымку, коли нет табаку, — угощать больше нечем, — складно пошутил Никита, необыкновенно разговорчивый и странно оживленный, чего с ним давно не бывало. Он сел поближе к оконцу, подвернув под себя заплатанный валенок. Большая голова Аладьина, как всегда, склонилась набок. Но он тотчас с силой выпрямил голову, словно корчагу на плечи поставил.
Марья и мать потеснились у печи. Матвеи Сибиряк опустился на пол подле них, у огня, оглядываясь вокруг и будто всему удивляясь. Доставая кисет, раскашлялся.