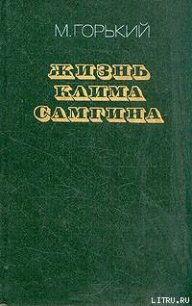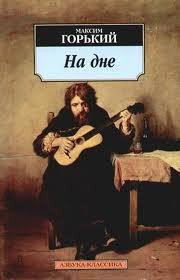Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая - Горький Максим (электронную книгу бесплатно без регистрации txt) 📗
– Хороших людей я не встречал, – говорил он, задумчиво и печально рассматривая вилку. – И – надоело мне у собаки блох вычесывать, – это я про свою должность. Ведь – что такое вор, Клим Иванович, если правду сказать? Мелкая заноза, именно – блоха! Комар, так сказать. Без нужды и комар не кусает. Конечно – есть ребята, застарелые в преступности. Но ведь все живем по нужде, а не по евангелию. Вот – явилась нужда привести фабричных на поклон прославленному царю...
Приподняв плечи, Митрофанов спрятал, как черепаха,. голову, показал пальцем за спину свою.
– А вот извольте видеть, сидит торговый народ, благополучно кушает отличнейшую пищу, глотает водку и вино дорогих сортов, говорит о своих делах, и как будто ничего не случилось. Но ведь я так понимаю, что фабричных водили в Кремль ради спокойствия и порядка, что для этого и ночные сторожа мерзнут, и воров ловят и вообще – всё! А – настоящей заботы о благополучии жизни во всем этом не вижу я, Клим Иванович, ей-богу, – не вижу! И, знаете, иной раз, как шилом уколет, как подумаешь, что по-настоящему о народе заботятся, не щадя себя, только политические преступники... то есть не преступники, конечно, а... роман «Овод» или «Спартак» изволили читать? Мне барышня Сомова посоветовала, читал с удовольствием, знаете!
Самгин усмехнулся, он готов был даже засмеяться вслух, но не потому, что стало весело, а Митрофанов осторожно поднялся со стула и сказал, не протягивая руки:
– Покорнейше благодарю... от всего сердца! Самгину показалось, что постоялец как будто вырос за этот час, лицо его похудело, сделалось благообразнее.
Самгин великодушно подал ему руку.
– Так – жене я сам скажу.
Митрофанов поклонился и ушел.
Клим посидел еще минут десять, стараясь уложить мысли в порядок, но думалось угловато, противоречиво, и ясно было лишь одно – искренность Митрофанова.
«В конце концов получается то, что он отдает себя в мою волю. Агент уголовной полиции. Уголовной, – внушал себе Самгин. – Порядочные люди брезгуют этой ролью, но это едва ли справедливо. В современном обществе тайные агенты такая же неизбежность, как преступники. Он, бесспорно... добрый человек. И – неглуп. Он – человек типа Тани Куликовой, Анфимьевны. Человек для других...»
Когда Самгин вышел на Красную площадь, на ней было пустынно, как бывает всегда по праздникам. Небо осело низко над Кремлем и рассыпалось тяжелыми хлопьями снега. На золотой чалме Ивана Великого снег не держался. У музея торопливо шевырялась стая голубей свинцового цвета. Трудно было представить, что на этой площади, за час пред текущей минутой, топтались, вторгаясь в Кремль, тысячи рабочих людей, которым, наверное, ничего не известно из истории Кремля, Москвы, России.
«Да, вот и Митрофанов считает революцию неустранимой. «Мы», – говорил он. Кто же это – «мы»? Но – какой неожиданный и... фантастический изгиб в этом человеке...»
Дома, устало раздеваясь и с досадой думая, что сейчас надо будет рассказывать Варваре о манифестации, Самгин услышал в столовой звон чайных ложек, глуховатое воркованье Кумова и затем иронический вопрос дяди Миши:
– Это вы что же, молодой человек, Шеллинга начитались, что ли?
– Я Шеллинга не читал, я вообще философию не люблю, она – от разума, а я, как Лев Толстой, не верю в разум...
– Как Толстой? Ого-о!..
«Чорт вас побери», – мысленно выругался Клим. Не желая видеть этих людей, он прошел в кабинет свой, прилег там на диван, но дверь в столовую была не плотно прикрыта, и он хорошо слышал беседу старого народника с письмоводителем.
– Человек живет не разумом, а воображением...
– Да – ну?
– То есть и разумом тоже, но это низшая форма, а высшие достижения наши не от разума...
– Наука, например?
– И наука тоже начинается с воображения.
– Налить вам? – спросила Варвара, и по ласковому тону вопроса Клим понял, что она спрашивает Кумова. Ему захотелось чаю, он вышел в столовую, Кумов привстал навстречу ему, жена удивленно спросила:
– Ты пришел? Где ты был?
– Смотрел манифестацию рабочих, потом – у патрона.
– Ага! – вскричал дядя Миша, и маленькое его личико просияло добродушным ехидством. – Ну что, как они? Пели «Боже, царя храни», да? Расскажите-ка, расскажите!
– Но ведь Гусаров рассказывал, – напомнила Варвара.
– А мы сопоставим показания, – шутливо сказал Суслов и, явно готовясь к бою, одернул на груди шерстяную оранжевую курточку, вязанную Любашею. Но прежде чем Самгин начал рассказывать, он заговорил сам.
– Гусаров этот – в сильнейшей ажитации, ему там померещилось что-то, а здесь он Плеханова искажал, дескать, освобождение рабочего класса дело самих рабочих, а мы – интеллигенция, ну – и должны отойти прочь...
Не слушая его. Кумов вполголоса бормотал, опрокинув длинное тело свое к Варваре:
– Хлысты, во время радений, видят духа святого, а ведь духа-то святого нет...
Самгин, сделав удивленное лицо, посмотрел на него через очки, письмоводитель, сконфуженно улыбнувшись, примолк.
– Вообще выходило у него так, что интеллигенция – приказчица рабочего класса, не более, – говорил Суслов, морщась, накладывая ложкой варенье в стакан чаю. – «Нет, сказал я ему, приказчики революций не делают, вожди, вожди нужны, а не приказчики!» Вы, марксисты, по дурному примеру немцев, действительно становитесь в позицию приказчиков рабочего класса, но у немцев есть Бебель, Адлер да – мало ли? А у вас – таких нет, да и не дай бог, чтоб явились... провожать рабочих в Кремль, на поклонение царю...
Но, хотя Суслов и ехидничал, Самгину было ясно, что он опечален, его маленькие глазки огорченно мигали, голос срывался, и ложка в руке дрожала.
– Нет, Гусаров этот из таких, знаете, как будто «блажен муж», а на самом деле – «векую шаташася»...
– Вы уже знаете? – спросила Татьяна Гогина, входя в комнату, – Самгин оглянулся и едва узнал ее: в простеньком платье, в грубых башмаках, гладко причесанная, она была похожа на горничную из небогатой семьи. За нею вошла Любаша и молча свалилась в кресло.
– Что это мы знаем? – спросил Суслов, осматривая ее и Любашу. Любаша сердито фыркнула;
– Он – зубатовец, Гусаров-то...
– Позвольте! – беспокойно и громко сказал Суслов. – Такие вещи надо говорить, имея основания, барышни!
– Он- – дурак, но хочет играть большую роль, вот что, по-моему, – довольно спокойно сказала Татьяна. – Варя, дайте чашку крепкого чая Любаше, и я прогоню ее домой, она нездорова.
Суслов, нетерпеливо стуча ложкой по косточкам своих пальцев, спросил ее:
– Нуте-с?
– Там, в Кремле, Гусаров сказал рабочим речь на тему – долой политику, не верьте студентам, интеллигенция хочет на шее рабочих проехать к власти и все прочее в этом духе, – сказала Татьяна как будто равнодушно. – А вы откуда знаете это? – спросила она.
– Нет, сначала вы, – вам-то как это известно? – торопливо проговорил Суслов.
– Я стояла сзади его, когда он говорил, я и еще один рабочий, ученик мой.
– Так, – сказал Суслов, глядя на Клима. Прошло несколько секунд неприятнейшего, ожидающего молчания. Потом Самгин, усмехаясь, напомнил:
– А еще недавно он утверждал необходимость фабричного террора.
Варвара ставила термометр Любаше, Кумов встал и ушел, ступая на пальцы ног, покачиваясь, балансируя руками. Сидя с чашкой чая в руке на ручке кресла, а другой рукой опираясь о плечо Любаши, Татьяна начала рассказывать невозмутимо и подробно, без обычных попыток острить.
– Слушало его человек... тридцать, может быть – сорок; он стоял у царь-колокола. Говорил без воодушевления, не храбро. Один рабочий отметил это, сказав соседу:
«Опасается парень пошире-то рот раскрыть». Они удивительно чутко подмечали всё.
– Ну, а как вообще были настроены? – спросил Суслов.
– Мне кажется – равнодушно. Впрочем, это не только мое впечатление. Один металлист, знакомый Любаши, пожалуй, вполне правильно определил настроение, когда еще шли туда: «Идем, сказал, в незнакомый лес по грибы, может быть, будут грибы, а вернее – нету; ну, ничего, погуляем».