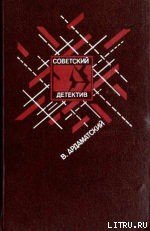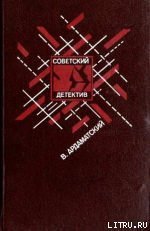Грант вызывает Москву. - Ардаматский Василий Иванович (читать полную версию книги TXT) 📗
В этот день второй раз похлебки не дали. А вечером снова явился Бульдог. Он был заметно пьян и, войдя в камеру, долго молча смотрел на Шрагина.
— Ну, красный господин, будешь говорить? — спросил он глухим голосом, каким он всегда говорил во время пыток. — Не будешь? Ну и не надо. Мы тебе сами поможем молчать. Твой трамвай пришел на конечную станцию. Понимаешь? Там поворота назад нет… — Он покрутил пальцем перед лицом Шрагина. — Там тупик.: конец… Понимаешь? — Было видно, что ему этот разговор доставляет наслаждение, весь его облик, глаза, интонация выражали его торжество над умом, волей и даже над строгой мужской красотой Шрагина. Расширенное и утяжеленное книзу лицо палача покрылось розовыми пятнами.
Шрагин молчал и с ненавистью смотрел ему прямо в лицо.
Бульдог спросил, подождав:
— Значит, молчишь, как покойник? Считай, что так это и есть… — Он помахал рукой, пробурчал пьяно: — Я еще не прощаюсь, — и ушел…
В первое мгновение эта мысль привела Шрагина в растерянность, верней, она просто заняла все его сознание, не вызвав, однако, ни страха, ни даже огорченья, — ведь он и раньше был готов к этому. Но одно — думать про это вообще, не зная, когда это произойдет, и, естественно, еще надеясь в глубине души… Третьего дня, например, когда ночью на город был налет советской авиации и бомбы вдруг стали ложиться так близко, что с потолка его камеры посыпались куски кирпича, надежда вдруг стала очень сильной. Но теперь Шрагин знал: это произойдет сегодня, сейчас…
Срок жизни определялся часами, а может быть, даже минутами. К этому привыкнуть, наверное, нельзя. Усилием всей своей воли Шрагин пытался заставить себя спокойно и логично думать об этом и обо всем, что с этим связано, но не успевал он сосредоточиться на одной какой–нибудь мысли, как какая–то уже неподвластная ему сила толкала его сознание к чему–то другому.
«…Ольга с Мишкой не пропадут, о них позаботятся. Сколько же это Мишке сейчас? Я уезжал — ему было ровно месяц, а сейчас… Погоди, сколько же?..»
«…Я могу винить себя в одном — что сделал меньше, чем мог… Были ошибки… Например… А, что теперь думать — их уже не исправишь…»
«…Все–таки Демьянов и Величко действуют, борется подполье, и то, что я выбываю из строя, просто еще одна потеря…»
«…Сейчас на войне… и вот сейчас и сейчас погибают солдаты, идущие вперед, на врага… Я тоже шел вперед… Я — с теми солдатами, которые сейчас гибнут, и не следует преувеличивать значение моей смерти… Она, кстати, могла прийти гораздо раньше… когда сделано было меньше… А бывает и так: солдат только сегодня попал на фронт, и сегодня же товарищи его хоронят…»
«…Ольге будет трудно… А потом вырастет Мишка…»
«…Меня одного или всех? Если Григоренко — тоже, как бы он не сорвался?..»
«…Найдут ли когда–нибудь наши могилы? Найдут, найдут… Наверняка попадется в руки наших товарищей какая–нибудь сволочь, которая будет знать, как с нами все тут… Они должны заплатить…»
«Как это говорил тогда учитель на кладбище?.. Хорошие такие и очень точные слова… Покалечили, сволочи, память…»
«…Главное, что мы выстояли, когда было самое тяжелое… и для нас и для всего народа… Тогда было важно, чтобы выстоял хотя бы еще один человек… И мы выстояли… И действовали, как могли. Весь город свидетель этому… Приедет ли когда–нибудь в этот город Ольга с Мишкой?..»
«…Если и Григоренко — тоже, как он будет держаться — боюсь… Умереть надо, как в бою, как в атаке — грудью вперед, не закрывая глаз… И наша смерть должна быть страшной врагу, а не нам… Так… Именно так…»
«Если бы казнили публично, перед народом, я бы им устроил шум… Но уже ночь… Они сделают в темноте, без лишних глаз и ушей…»
Так отрывисто и беспорядочно думал Шрагин, а в это время его предельно напряженный слух ловил каждый звук там, за железной дверью. Но ни звука не было слышно — мертвая тишина.
К казни давно все было готово. Опаздывал Релинк, пожелавший лично присутствовать при расстреле. Бульдог, днем зарядившийся водкой, к вечеру уже протрезвел, и у него дико болела голова. Вытянув ноги, он сидел на диване в кабинете начальника тюрьмы Гроссвальда…
Бульдог вошел в камеру Шрагина вскоре после полуночи с двумя солдатами. Он сделал знак — солдаты набросились на Шрагина и связали ему руки за спиной.
— Выходи, красный господин!
В коридоре Шрагин увидел стоявших возле своих камер Назарова и Григоренко. Проходя мимо, он внимательно глянул в их лица: Назаров был возбужден, он, кажется, даже не узнал Шрагина, а у Григоренко лицо было абсолютно равнодушное, он мельком взглянул на Шрагина и стал смотреть вверх.
Двенадцать ступенек вниз, и Шрагина ввели в подвал с низким сводчатым потолком, который весь блестел от сырости. Подвал был узким и длинным, он как бы повторял тюремный коридор там, наверху. Делать подвал и под камерами — опасно. Зрение и сознание Шрагина–развед–чика в первую минуту зафиксировало это чисто автоматически, но затем он начал осматривать все уже сознательно — это помогало отвлечься от того, ради чего его привели в этот подвал…
Его поставили спиной к боковой стене. В противоположной стене, чуть наискосок, была неглубокая ниша, и там на каменном карнизе сидели пятеро солдат и фельдфебель. У солдат на коленях лежали автоматы, а у фельдфебеля спереди, на ремне, висела расстегнутая кобура с пистолетом. Солдаты посматривали на Шрагина с испуганным любопытством, но, когда он стал смотреть на них, они заговорили между собой.
Привели Григоренко и Назарова. Их поставили рядом со Шрагиным. Григоренко оказался в середине.
— Все… — еле слышно произнес Григоренко.
— Вот как они боятся нас… — тихо отозвался ему Шрагин.
Назаров чуть наклонился вперед, чтобы увидеть Шрагина, и громко сказал:
— Это не страшно, главную муку мы выдержали…
— Умрем, товарищи, без страха, как подобает чекистам, — уже громче сказал Шрагин и посмотрел на Григоренко. Сейчас глаза у Григоренко не были равнодушными, но в них было какое–то больное сочетание решимости и тоски. И Шрагин сказал ему: — Родина узнает, как мы погибали, помните об этом…
— Родина все узнает! — почти радостно воскликнул Назаров.
Послышался топот ног по каменным ступеням — в подвал спустились Бульдог, начальник тюрьмы Гроссвальд и Релинк.
Они остановились перед обреченными. Релинк в упор насмешливо смотрел в глаза Шрагину.
— Ну, господин Шрагин, что вы от меня ждете? — спросил он.
— Приговор, — громко сказал Шрагин.
— Приговор себе вы вынесли сами. Нам остается только привести его в исполнение. Я — враг всяческих формальностей.
— Я тоже, — сказал Шрагин. — Но все же, когда мы будем вешать вас, мы эту формальность соблюдем, хотя вам от этого легче не будет…
Григоренко нервно рассмеялся. Назаров ожесточенно крикнул:
— Всех вас до одного повесим! Всех!
— Кончайте! — крикнул Релинк.
Начальник тюрьмы повернул выключатель, и в глубине подвала вспыхнула яркая лампочка, осветившая щербатую стену.
Солдаты тюремной охраны отвели Шрагина, Григоренко и Назарова к освещенной стене и быстро вернулись назад. Пятеро солдат и фельдфебель стали в ряд поперек подвала. Фельдфебель вынул из кобуры пистолет и близоруко его осматривал, будто обнюхивал.
Они стояли так же, как раньше: в середине — Григоренко справа от него — Шрагин, слева — Назаров. Их поставили лицом к стене, но они вместе, как по команде, повернулись лицом к палачам.
— Товарищи, мы выполнили свой долг до конца. Умираем за нашу Родину, за ее победу! Родина нас не забудет! — негромко сказал Шрагин.
Назаров, выдвинув вперед правое плечо, закричал:
— Смерть гитлеровским бандитам! Чекисты не сдаются! Стреляйте, гады! Всех не перестреляете!
Что–то крикнул Релинк, за ним — Бульдог, и все покрыл глухой грохот автоматов…
Эпилог
Дорогой читатель! Поверь, мне было бы гораздо легче и приятнее придумать и написать, как подпольщики сделали подкоп под тюремную стену, взорвали корпус одиночек и спасли моих героев. И мне тяжко было писать только что прочитанную тобой последнюю главу.