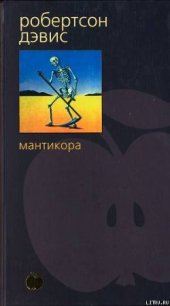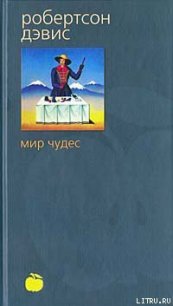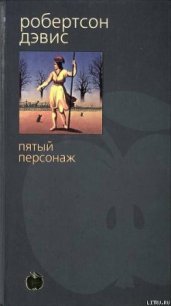Лира Орфея - Дэвис Робертсон (книги полностью txt) 📗
— Я совершенно не согласен с процедурой, то есть с прослушиванием представления, — сказал Пфайфер. — Это вносит элементы, излишние для нашего решения.
— Вам все равно, эффектно ли смотрится опера на сцене?
— Меня интересует лишь, насколько эффектно она смотрится на бумаге. Я согласен с покойным Эрнестом Ньюменом: великая партитура полностью проявляется, когда ее читаешь в тишине своего кабинета, а не когда сидишь среди толпы, терпя ошибки оркестра и певцов.
— Вы хотите сказать, что лучше воспроизведете оперу у себя в голове, чем сто музыкантов высокого класса в театре?
— Я способен прочитать оперную партитуру.
— Лучше, чем, скажем, фон Караян? Чем Хайтинк? Чем Колин Дэвис?
— Я не понимаю цели ваших вопросов.
— Я пытаюсь оценить всю степень вашего величия, чтобы проявить должное уважение. Я тоже способна прочитать оперную партитуру. Я славлюсь этой способностью. Но все равно лучше, когда я взмахиваю палочкой и сто двадцать музыкантов принимаются за работу. Я одна не заменяю оперную труппу и оркестр.
— Да? Вы, возможно, и не заменяете, а я заменяю. Нет, я не пью вина. Стакан «перье», пожалуйста.
Алкоголь, не выпитый профессором Пфайфером, с лихвой компенсировали остальные. За утро у них пересохло в горле. За время обеда все, кроме Пфайфера, пришли в отличное настроение; профессор Джордж Купер обнаружил склонность налетать на столы и смеяться над своей неловкостью. В конце концов, под профессорскими мантиями скрывались музыканты; хорошо накрытый стол был частью их стихии. Все поблагодарили Артура и Марию так горячо, что Пфайфер заподозрил худшее. Но его им не удалось подкупить! Отнюдь!
5
В ряду грим-уборных на уровне сцены первой шла каморка, предназначенная для дирижера (когда он был) или быстрого переодевания при необходимости. Сейчас тут сидела Шнак, отчаявшаяся и одинокая. Ее и раньше отвергали — например, тот парень, который сказал, что с ней спать все равно что с велосипедом. Ей знакомо было одиночество человека, покинувшего дом и родителей. Она знала, как горько быть одиночкой, никуда не вписываться, — она была еще слишком молода и незначительна, чтобы носить свое одиночество как орден. Но так она еще никогда не страдала — сейчас, когда ей как музыканту предстояло сделать огромный шаг вперед.
Она знала, что не провалится. Франсеско Бергер уже несколько недель как объяснил ей, что экзамен — лишь ритуал, церемония, необходимая в научной среде; факультет музыковедения не допускает соискателей к экзамену, не будучи уверен в успехе как минимум на девяносто пять процентов. Экзамен был либо последним и самым тяжелым испытанием студенческой жизни, либо первым и самым легким из испытаний жизни профессиональной. Шнак нечего было бояться.
Но она все равно боялась. До этого ей доводилось дирижировать лишь студенческим оркестром, сборищем вздорных неопытных школяров. Профессиональный оркестр — нечто совершенно иное. Мастера своего дела — как старые кони, которые борозды не испортят; они повидали всяких наездников и были намерены делать по возможности то, что считают нужным. О, конечно, они не провалят представление: они — истинные музыканты. Но они будут отставать от темпа, вступать не вовремя, фразировать кое-как; они не потерпят, чтобы ими командовала какая-то соплячка. На всех публичных представлениях должна была дирижировать Гунилла, разве что она смилостивится над Шнак и отдаст ей пару представлений в будни. Гунилла умела добиваться нужного от оркестра, и музыканты уважали ее острый язык — она умела профессионально отчехвостить, не переходя на личности. Как это она вчера сказала арфисту? «Арпеджио должно быть намеренным, как жемчужины, которые одну за другой роняют в вино, а не случайным, будто баба поскользнулась на банановой кожуре». Не Оскар Уайльд, но для репетиции сойдет. Гунилла учила Шнак дирижировать, дала ей провести полную репетицию оркестра, сама делала пометки а потом целый час разбирала их со Шнак. Но сегодня, взмахнув палочкой, Шнак останется одна. И старый козел Пфайфер будет наблюдать за каждым ее движением.
Сидеть в уборной было невыносимо. Шнак вышла и забрела на сцену, где готовились к увертюре. Сцену озарял лишь свет одной голой лампочки высоко на колосниках; вид был унылый, как всегда бывает с неосвещенной сценой. Снизу, из-под спиральной конструкции из валиков, имитирующих набегающие волны озера, доносились голоса: Уолдо Харрис, Далси и Гвен Ларкин спорили с Герантом.
— Они прекрасно работают, но слишком скрипят, — говорил Уолдо. — Но вы же не согласитесь их совсем убрать? Наверно, мы бы могли что-нибудь придумать, чтобы изобразить волны на озере.
— О нет! — воскликнула Далси. — Я обожаю эту конструкцию, она полностью соответствует тому, как это делали в тысяча восемьсот двадцатом году.
— Они обошлись в целое состояние, — сказал Уолдо. — Просто жалко будет их выбросить.
— Но что делать? — спросил Герант.
— Придется разобрать три валика и покрыть резиной трущиеся части. Этого, наверно, хватит.
— Сколько времени это займет? — спросил Герант.
— Не меньше часа.
— Тогда потратьте час и сделайте. Чтобы сегодня после обеда уже было готово.
— Не можем, — сказала Гвен Ларкин. — Занавес должен подняться ровно в два. Сегодня экзаменовка Шнак, ты забыл?
— И что с того? За час никто не умрет.
— Судя по тому, что было сегодня утром, нельзя, чтобы они ждали целый час. Они разозлятся, особенно этот сварливый старик. Мы не можем осложнять Шнак экзамен.
— Чертова Шнак! Противная малявка. От нее одни проблемы!
— Герант, не вредничай. Дай девочке шанс.
— По-твоему, ее шанс важнее моей постановки?
— Да, Герант, с этой минуты и до половины четвертого ее шанс важнее всего на свете. Ты это сам вчера говорил всей труппе.
— Ты же знаешь, я говорю то, чего требует момент.
— Ну так вот, сейчас момент требует, чтобы мы оставили эти ролики в покое. Потом все сделаем.
— Это женская солидарность. Господи, как я ненавижу женщин!
— Можешь меня ненавидеть, дело твое, — сказала Гвен. — Но пойди навстречу Шнак. Потом будешь ее ненавидеть сколько хочешь.
— Гвен права, — сказал Уолдо. — Я сказал «час», но вполне может выйти и два. Давайте пока это оставим.
— О Jesu mawr! О anwy! Crist! [118] Как хотите!
Судя по звукам, Герант ушел весьма недовольный.
— Не переживайте! Нам только сцену появления меча отыграть! На сегодня сойдет! — крикнул Уолдо, но Герант не ответил, а значит, не смягчился.
Шнак отправилась в туалет и вытошнила в унитаз съеденный сэндвич и выпитый кофе. Обед превратился в желчь у нее в желудке. Она обтерла лицо, умылась холодной водой, вернулась к себе в грим-уборную и стала смотреться в зеркало. Чертова Шнак. Противная малявка. Герант, конечно, прав.
Он меня никогда не полюбит. Не за что. Я люблю Геранта еще больше, чем Ниллу, а он меня ненавидит. Еще бы! Коротышка. Тощая. Волосы ужасные. Морда крысиная. А ноги! Зачем Нилла велела мне надеть черный жакет и эту белую блузку? Конечно, он меня терпеть не может. Я просто жуткая уродина. Почему я не похожа на Ниллу? Или на эту Марию Корниш? За что Бог меня так не любит?
В дверь постучали, и заглянула девица на побегушках (самая хорошенькая).
— Шнак, пятнадцать минут, — сказала она. — Мы все за тебя болеем. Все девочки будут тебя ругать.
Шнак огрызнулась, и девица исчезла.
Следующие пятнадцать минут Шнак твердила себе, более или менее повторяясь, как она себя ненавидит. Ее опять позвали — на сей раз через дверь, и она пошла вниз, через сценический подвал на сцену и в оркестровую яму. Вот они сидят — тридцать два негодяя, сговорившиеся ее уничтожить. Они ей мило кивали; концертмейстер и Уоткин Бурк, сидевший у клавесина, шепнули: «Ни пуха».
Нилла велела, если при выходе Шнак на дирижерское место будут аплодисменты, развернуться и поклониться. Никто не хлопал, но краем глаза Шнак увидела, что семь экзаменаторов расположились там и сям в зрительном зале, а в первом ряду, прямо у нее за спиной, с полной партитурой на коленях и фонариком в руке, сидит ненавистный Пфайфер. Ну и место выбрал, подумала она.
118
Господи Исусе! Боже милостивый! (валл.)