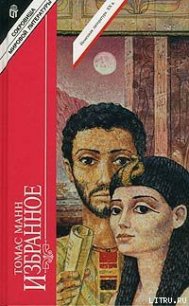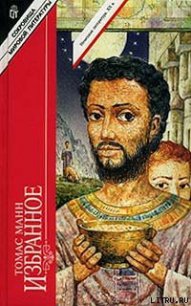ДОКТОР ФАУСТУС - Манн Томас (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
В эту-то непомерно греховную, примитивную и утешительную историю Адриан вложил всю шутливость и жуткость, всю детскую проникновенность, фантастичность и торжественность музыкального письма, и к этой пьесе или, пожалуй, именно к этой, вполне можно приложить удивительный эпитет старого профессора из Любека — слово «богомудрый». Я потому сейчас о нем вспомнил, что «Gesta» действительно являются своеобразным возобновлением стиля «Love's Labour's Lost», тогда как «Чудеса вселенной», по своему музыкальному языку, стоят уже ближе к «Апокалипсису» и даже к «Фаустусу». Подобные предвосхищения и реверберации встречаются в творческой жизни довольно часто; художественная же привлекательность этих сюжетов для моего друга мне совершенно ясна: его ум, склонный к ехидной, разлагающе пародийной игре, тут прежде всего привлекла возможность критически переосмыслить напыщенную патетику уже умиравшей эпохи искусства. Музыкальная драма черпала сюжет в романтическом сказании, в мифологии средневековья, давая понять, что только такой материал достоин музыки, соответствует ее сущности. Будучи, по-видимому, определяющим, последнее обстоятельство оказывало разрушительное действие: шутовство, скоморошество, особенно эротическое, заменяло здесь священнический морализм, отметая обесцененную помпезность приемов и перенося действие на кукольную сцену, уже саму по себе бурлескную. Работая над «Gesta», Леверкюн старался изучить их специфические возможности, и пристрастие народа, среди которого он поселился, к католически-пышной театральности не раз представляло для этого случай. По соседству в Вальдсхуте жил аптекарь, вырезавший из дерева кукол и изготовлявший костюмы для них, и Адриан часто к нему захаживал. Ездил он также в Миттенвальд, деревню скрипичных мастеров в долине верхнего Изара, где аптекарь, одержимый той же страстью, с помощью своей жены и искусников-сыновей устраивал кукольные представления по Поччи и Христиану Винтеру, собиравшие довольно большую публику из местных жителей и приезжих. Леверкюн смотрел эти спектакли, а кроме того, как я заметил, изучал по литературе высокое мастерство яванского театра кукол и теней.
Какие веселые и волнующие вечера выдавались в этом зале с Никой и глубокими амбразурами окон, когда он на старом пианино играл нам, то есть мне, Шильдкнапу и, кажется, Руди Швердтфегеру, который тоже не преминул явиться разок-другой, свеженаписанные куски из своих удивительных партитур, где наиболее сильное гармонически и наиболее запутанное ритмически было отдано самой простой материи и, наоборот, наиболее изысканное содержание передано музыкой, близкой по стилю детской игре на дудочке. Встреча королевы с нынешним святым отцом, которого она когда-то родила от брата и обнимала как жена, вызвала у нас слезы. Мы плакали равно от смеха и от невообразимой растроганности; и Швердтфегер, дав волю своей доверчивости в такую минуту, обнял Адриана и со словами: «Это вышло у тебя великолепно!» — прижал его голову к своей. Я видел, как неодобрительно искривился и без того уже искаженный горькой улыбкой рот Рюдигера, да и сам я непроизвольно пробормотал: «Хватит!» — и протянул руку, словно хотел одернуть бесцеремонного юнца.
Тому было, наверно, не так-то легко следить за беседой, происходившей в игуменском покое после этого домашнего концерта. Мы говорили о соединении изощренного и народного, о ликвидации пропасти между мастерством и доходчивостью, между высоким и низким, в известном смысле осуществленных литературным и музыкальным романтизмом, после которого, однако, глубокий разрыв и разобщенность между добротным и легким, достойным и занимательным, передовым и ходовым снова стали уделом искусства. Разве можно было назвать сентиментальностью все более сознательную потребность музыки — а музыка отвечала за все — выйти из своего респектабельного уединения, найти себе общество, не став пошлой, и говорить языком, который понимали бы и непосвященные, как понимали они «Волчье ущелье», «Брачный венец», Вагнера? Во всяком случае, средством достижения этой цели была не сентиментальность, а уж скорее ирония, насмешка, освежающая атмосферу, ополчающаяся на романтизм, на пафос и пророческую выспренность, на меломанию и литературщину, выступающая в одном лагере с объективным и элементарным, иными словами, с новым открытием самой музыки как организации времени. Каверзнейшее начинание! Ибо ничего не стоит сбиться на ложную примитивность, то есть снова на романтизм. Оставаться на вершинах духа; сообщить естественность изысканнейшим достижениям европейской музыкальной культуры, так чтобы каждый ощутил их новизну, утвердить над ними свою власть, непринужденно пользуясь ими как строительным материалом и заставляя слушателя почувствовать традицию, но традицию, преобразованную в противоположность эпигонства; сделать так, чтобы техника, при всей ее изощренности, ничуть не бросалась в глаза, скрыть все ухищрения контрапункта и инструментовки, придав им простоту, ничего общего не имеющую с примитивностью, некую пронизанную тонкой интеллектуальностью безыскусность, — такова, по-видимому, задача, таково желание искусства.
Говорил преимущественно Адриан, мы только изредка вторили ему. Возбужденный предшествовавшей демонстрацией своей работы, он говорил с румянцем на щеках и блеском в глазах, слегка лихорадочно, впрочем, не плавно и быстро, а скорее отрывисто, но с такой страстью, что, пожалуй, я никогда — ни в общении со мною, ни в присутствий Рюдигера — не видел его столь бурно красноречивым. Шильдкнап заявил о своем неверии в деромантизацию музыки. По его мнению, музыка слишком глубоко и насущно связана с романтизмом, чтобы отречься от него без тяжелого естественного урона для себя. На это Адриан отвечал:
— Я охотно с вами соглашусь, если вы подразумеваете под романтизмом теплоту чувств, которую ныне, ради технической изощренности, отрицает музыка. Это, конечно, самоотрицание. Но то, что мы называли облагораживающим превращением сложного в простое, есть по существу не что иное, как вновь обретенная жизненность и сила чувства. Если бы был возможен… как бишь его… как это у тебя называется? — обратился он ко мне и сам же ответил: — У тебя это называется прорыв. Так вот, если бы удался прорыв из интеллектуального холода в рискованный мир нового чувства, искусство, можно сказать, было бы спасено. Спасение, — продолжал он, нервно пожав плечами, — романтическое словцо: притом словцо для гармонизаторов, отглагольное существительное для обозначения блаженства, которое находит в каденции гармоническая музыка. Не смешно ли, что некоторое время музыка считала себя средством спасения, освобождения, тогда как она, равно как и все искусства, сама нуждается в освобождении от выспреннего отщепенчества, являющегося результатом эмансипации культуры, культуры, принявшей на себя роль «заменителя религии», от пребывания с глазу на глаз со «сливками образованного общества», то есть с публикой, которой скоро не будет, которой, собственно, уже нет, так что искусство в ближайшем будущем окажется в полной изоляции, обреченным на одинокое умирание, если оно не прорвется к «народу», или, выражаясь менее романтично, к людям?
Он выложил все это одним духом, негромко и по ходу беседы, но со сдержанной дрожью в голосе, вполне нами понятой, лишь когда он закончил.
— Все жизнеощущение такого искусства, поверьте, станет совсем другим. Оно будет более радостным и скромным. Это неизбежно, и это счастье. С него спадет шелуха меланхолической амбициозности, и новая чистота, новая безмятежность составит его существо. Грядущие поколения будут смотреть на музыку, да и она на себя, как на служанку общества, далеко выходящего за рамки «образованности», не обладающего культурой, но, возможно, ею являющегося. Мы лишь с трудом это себе представляем, и все-таки это будет! И никого уже не удивит искусство без страдания, духовно здоровое, непатетическое, беспечально-доверчивое, побратавшееся с человечеством.
Он осекся, и мы, все трое, молчали, потрясенные. Больно и одновременно сладко слышать, как говорит о сообществе одиночество, об интимности — неприступность. Как ни тронула меня его речь, в глубине души я был, пожалуй, недоволен ею, недоволен им. То, что он сказал, не вязалось с его гордостью, с его, если угодно, высокомерием, которое я любил и на которое искусство имеет право. Искусство — это мысль, а мысль вовсе не должна чувствовать себя в долгу перед обществом или сообществом — на мой взгляд, она обязана этого избегать ради своей свободы, своего благородства. Искусство, «идущее в народ», отождествляющее свои потребности с потребностями толпы, маленького человека, заурядности, обречено на оскудение, и вменять ему это в обязанность, например допускать, в интересах государства только такое искусство, которое понятно маленькому человеку, значит насаждать самое худшее ремесленничество и убивать мысль. Оно, таково мое убеждение, при самых своих смелых, безудержных, диких для толпы выходках, исканиях, опытах может не сомневаться, что послужит человеку — а со временем и людям — каким-то в высшей степени косвенным образом.