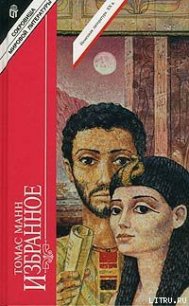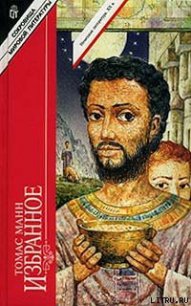ДОКТОР ФАУСТУС - Манн Томас (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
Другими словами: под покровом буржуазной безупречности, защиты которой она всегда так ностальгически-болезненно искала, Инеса Инститорис изменяла мужу с дамским угодником, мальчиком по своему душевному складу и даже по поведению, доставлявшим ей не меньше горестей и тревог, чем иная легкомысленная женщина серьезно любящему мужчине, и утолявшим ее разбуженную постылым браком чувственную страсть. Так жила она годы от момента, последовавшего, насколько я могу судить, всего через несколько месяцев после ее бракосочетания, до конца десятилетия, и если потом она уже так не жила, то лишь оттого, что Руди, хотя она всеми силами старалась его удержать, ее покинул. Это она, одновременно исполняя роль примерной хозяйки и матери, направляла, устраивала и укрывала их связь, каждый день хитрила, вела двойную жизнь, которая, разумеется, истощала ее нервы и, к великому ее страху, угрожала ненадежной ее миловидности, например, маниакально прорезав на переносице, между светлых бровей, две глубокие морщинки. При всей осторожности, хитрости и виртуозной скрытности, проявляемой для того, чтобы утаить от общества подобные истории, желание обеих сторон их утаить никогда не бывает совершенно твердым и нерушимым: ни у мужчины, которому льстит, если люди по крайней мере догадываются о его удаче, ни даже у представительницы слабого пола, женское честолюбие которой втайне жаждет, чтобы все знали, что она не довольствуется ласками своего мужа, никем высоко не ценимыми. Поэтому я едва ли ошибусь, предположив, что окольные пути Инесы Инститорис были сравнительно широко известны в кругу ее мюнхенских знакомых, хотя ни с кем из них, кроме Адриана Леверкюна, я на эту тему не говорил. Более того, я допускаю, что и сам Гельмут знал правду: наличие известного сочетания просвещенного добродушия, терпимости, ограничивающейся огорченным покачиванием головы, и миролюбия говорит в пользу такого предположения, да и не столь уж редки случаи, когда общество считает мужа единственным слепцом, в то время как сам он уверен, что, кроме него, никто ничего не знает. Таково наблюдение старика, вдоволь насмотревшегося на жизнь.
У меня не создавалось впечатления, что Инеса как-то особенно заботится о разглашении тайны. Она всячески старалась ее сохранить, но это было скорее данью приличиям: кто очень хотел, мог прознать обо всем, лишь бы не мешал ей. Страсть слишком поглощена собой, чтобы представить себе, что кто-то может всерьез против нее восстать. По крайней мере это относится к любви, ибо чувство притязает здесь на любые права и, при всей своей запрещенности и предосудительности, рассчитывает на понимание. Как же могла Инеса, веря в полную сохранность своей тайны, без обиняков предположить, что я в нее посвящен? А между тем она почти бесцеремонно — разве только не назвав определенного имени — высказала такое предположение в одной вечерней беседе, которую мы вели с ней, если не ошибаюсь, осенью 1916 года и которая была для нее явно очень важна. В отличие от Адриана, непременно возвращавшегося после вечера в Мюнхене с одиннадцати часовым поездом домой, в Пфейферинг, я снял комнатушку в Швабинге, сразу за Триумфальной аркой, на Гогенцоллернштрассе, чтобы не быть связанным и при случае иметь пристанище в столице. Поэтому, будучи однажды как друг дома приглашен на ужин к Инститорисам, я мог с готовностью принять поддержанное мужем предложение Инесы посидеть с ней немного вдвоем, когда Гельмут отправится играть в карты в клуб «Аллотриа». Он ушел в начале десятого, пожелав нам приятно поболтать. Хозяйка и гость сидели вдвоем в малой гостиной с низкой мягкой мебелью и белым мраморным бюстом Инесы — работы одного знакомого скульптора, покоившимся на колонне, — очень похожим, очень привлекательным, гораздо меньше натуральной величины, но необычайно выразительно передававшим тяжелые волосы, подернутые поволокой глаза, нежную, косо склоненную вперед шейку, лукаво и робко настороженный рот.
И снова я был доверенным, «добрым», не вызывающим эмоций человеком, полной противоположностью миру соблазнов, вероятно воплощавшемуся для Инесы в этом мальчике, о котором ей так хотелось со мной побеседовать. Она сама говорила, что никакие дела, события, переживания, счастье, страдание, любовь не оправдывают себя, если остаются немы, если служат только источником горя и радости. Они не мирятся с мраком и безмолвием. Чем они секретнее, тем больше нуждаются в третьем, доверенном, добром, с которым можно о них говорить, — а таким третьим был я; я это понимал и выполнял свою роль.
После ухода Гельмута мы еще некоторое время, как бы давая ему удалиться за пределы слышимости, болтали о том о сем. Вдруг она огорошила меня, сказав:
— Серенус, вы меня браните, осуждаете, презираете?
Никакого смысла не было разыгрывать недоумение.
— Нисколько, Инеса, — ответил я. — Упаси боже! Я всегда говорю: «Мне отмщение, и аз воздам». Я знаю, самый проступок напоен карой, которую Он в него вложил, так что одно неотделимо от другого и счастье сливается с наказанием. Должно быть, вы тяжко страдаете. Разве я сидел бы здесь, будь я моралистом? Что я за вас боюсь, я не отрицаю. Но и это я держал бы про себя, если бы не ваш вопрос, браню ли я вас.
— Что такое страдание, что такое страх и унизительная опасность, — сказала она, — по сравнению со сладчайшим, желаннейшим торжеством, без которого не хотелось бы жить, по сравнению с сознанием того, что ты не дала его легкомыслию, его непостоянству, его изводящей душу ненадежной светскости отступиться от лучших свойств его сердца, что тебе удалось добиться серьезности от пустого его щегольства, овладеть неуловимым и наконец, наконец-то, не единожды, а бессчетное число раз видеть его в состоянии, подобающем его доброму началу, — в состоянии блаженной самоотдачи, глубоко воздыхающей страсти!
Не утверждаю, что она употребила именно эти обороты, но говорила-то примерно так. Она ведь была начитанна и привыкла жить своей внутренней жизнью не молча, а облекая ее в слова, и еще девушкой пробовала свои силы в поэзии. Ее речь отличалась и просвещенной точностью и той долей смелости, которая всегда возникает тогда, когда язык стремится точно передать жизнь и чувство, раскрыть их в себе, вдохнуть в них настоящую жизнь. Это не обыденное его желание, а плод аффекта, и в данном смысле аффект и ум — родственны и способность разума к анализу даже трогательна. Она продолжала говорить, лишь изредка и краем уха. прислушиваясь к моим репликам, и слова ее, скажу откровенно, были напоены чувственным наслаждением, отчего я и не стану передавать их прямой речью. Сочувствие, скромность, гуманная деликатность мешают мне это сделать, и еще, может быть, мещанская боязнь оставить у читателя неприятное впечатление. Инеса неоднократно повторялась, стараясь еще лучше выразить уже сказанное, казавшееся ей недостаточно адекватно изложенным. И все время она не могла отделаться от какого-то странного отождествления человеческой ценности и чувственной страсти, от навязчивой, причудливо обуявшей ее идеи, будто внутренняя ценность проявляется и реализуется лишь в вожделении, чуть ли не равнозначном «ценности», будто величайшее и самонужнейшее счастье состоит в том, чтобы способствовать такой реализации. Просто невозможно описать этот привкус горячей, грустной и ненадежной удовлетворенности, который приобретало в ее устах смешение понятий «ценность» и «вожделение»; вожделение превращалось тут в элемент глубочайшей серьезности, диаметрально противоположный тому ненавистному элементу «светского раута», «приятности», которому ценность, кокетливо играючи, предавала себя, который был эльфической, предательской ее оболочкой и у которого ее надлежало отнять, вырвать, чтобы получить ее одну, только одну, одну в полном смысле слова. Укрощение светскости, претворение ее в любовь — вот к чему это клонилось; но одновременно и к чему-то более отвлеченному, к чему-то такому, в чем жутко сливались воедино мысль и чувственность; к идее, что противоречие между фривольностью светского раута и печальной сомнительностью жизни уничтожается в его объятиях, что они — сладчайшая месть за страдание, причиняемое этим противоречием.