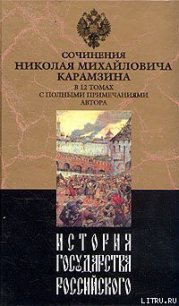Краткое содержание произведений русской литературы I половины XX века - Автор неизвестен (читаем книги бесплатно txt) 📗
А Людмила Афанасьевна и сама уже не убеждена в безупречности научного подхода. Когда-то, лет пятнадцать – двадцать назад, спасшая столько жизней лучевая терапия казалась методом универсальным, просто находкой для врачей-онкологов. И только теперь, последние два года, стали появляться больные, бывшие пациенты онкологических клиник, с явными изменениями на тех местах, где были применены особенно сильные дозы облучения. И вот уже Людмиле Афанасьевне приходится писать доклад на тему «Лучевая болезнь» и перебирать в памяти случаи возврата «лучевиков». Да и ее собственная боль в области желудка, симптом, знакомый ей как диагносту-онкологу, вдруг пошатнула прежнюю уверенность, решительность и властность. Можно ли ставить вопрос о праве врача лечить? Нет, здесь явно Костоглотов не прав, но и это мало успокаивает Людмилу Афанасьевну. Угнетенность – вот то состояние, в котором находится врач Донцова, вот что действительно начинает сближать ее, такую недосягаемую прежде, с ее пациентами. «Я сделала, что могла. Но я ранена и падаю тоже».
Уже спала опухоль у Русанова, но ни радости, ни облегчения не приносит ему это известие. Слишком о многом заставила задуматься его болезнь, заставила остановиться и осмотреться. Нет, он не сомневается в правильности прожитой жизни, но ведь другие-то могут не понять, не простить (ни анонимок, ни сигналов, посылать которые он просто был обязан по долгу службы, по долгу честного гражданина, наконец). Да не столько его волновали другие (например, Костоглотов, да что он вообще в жизни-то смыслит: Оглоед, одно слово!), сколько собственные дети: как им все объяснить? Одна надежда на дочь Авиету: та правильная, гордость отца, умница. Тяжелее всего с сыном Юркой: слишком уж он доверчивый и наивный, бесхребетный. Жаль его, как жить-то такому бесхарактерному. Очень напоминает это Русанову один из разговоров в палате, еще в начале лечения. Главным оратором был Ефрем: перестав зудеть, он долго читал какую-то книжечку, подсунутую ему Костоглотовым, долго думал, молчал, а потом и выдал: «Чем жив человек?» Довольствием, специальностью, родиной (родными местами), воздухом, хлебом, водой – много разных предположений посыпалось. И только Николай Павлович уверенно отчеканил: «Люди живут идейностью и общественным благом». Мораль же книги, написанной Львом Толстым, оказалась совсем «не наша». Лю-бо-вью... За километр несет слюнтяйством! Ефрем задумался, затосковал, так и ушел из палаты, не проронив больше ни слова. Не так очевидна показалась ему неправота писателя, имя которого он раньше-то и не слыхивал. Выписали Ефрема, а через день вернули его с вокзала обратно, под простыню. И совсем тоскливо стало всем, продолжающим жить.
Вот уж кто не собирается поддаваться своей болезни, своему горю, своему страху – так это Демка, впитывающий все, о чем бы ни говорилось в палате. Много пережил он за свои шестнадцать лет: отец бросил мать (и Демка его не обвиняет, потому как она «скурвилась»), матери стало совсем не до сына, а он, несмотря ни на что, пытался выжить, выучиться, встать на ноги. Единственная радость осталась сироте – футбол. За нее он и пострадал: удар по ноге – и рак. За что? Почему? Мальчик со слишком уж взрослым лицом, тяжелым взглядом, не талант (по мнению Вадима, соседа по палате), однако очень старательный, вдумчивый. Он читает (много и бестолково), занимается (и так слишком много пропущено), мечтает поступить в институт, чтобы создавать литературу (потому что правду любит, его «общественная жизнь очень разжигает»). Все для него впервые: и рассуждения о смысле жизни, и новый необычный взгляд на религию (тети Стефы, которой и поплакаться не стыдно), и первая горькая любовь (и та – больничная, безысходная). Но так сильно в нем желание жить, что и отнятая нога кажется выходом удачным: больше времени на учебу (не надо на танцы бегать), пособие по инвалидности будешь получать (на хлеб хватит, а без сахара обойдется), а главное – жив!
А любовь Демкина, Асенька, поразила его безупречным знанием всей жизни. Как будто только с катка, или с танцплощадки, или из кино заскочила эта девчонка на пять минут в клинику, просто провериться, да здесь, за стенами ракового, и осталась вся ее убежденность. Кому она теперь такая, одногрудая, нужна будет, из всего ее жизненного опыта только и выходило: незачем теперь жить! Демка-то, может быть, и сказал зачем: что-то надумал он за долгое лечение-учение (жизненное учение, как Костоглотов наставлял, – единственно верное учение), да не складывается это в слова.
И остаются позади все купальники Асенькины ненадеванные и некупленные, все анкеты Русанова непроверенные и недописанные, все стройки Ефремовы незавершенные. Опрокинулся весь «порядок мировых вещей». Первое сживание с болезнью раздавило Донцову, как лягушку. Уже не узнает доктор Орещенков своей любимой ученицы, смотрит и смотрит на ее растерянность, понимая, как современный человек беспомощен перед ликом смерти. Сам Дормидонт Тихонович за годы врачебной практики (и клинической, и консультативной, и частной практики), за долгие годы потерь, а в особенности после смерти его жены, как будто понял что-то свое, иное в этой жизни. И проявилось это иное прежде всего в глазах доктора, главном «инструменте» общения с больными и учениками. Во взгляде его, и по сей день внимательно-твердом, заметен отблеск какой-то отреченности. Ничего не хочет старик, только медной дощечки на двери и звонка, доступного любому прохожему. От Людочки же он ожидал большей стойкости и выдержки.
Всегда собранный Вадим Зацырко, всю свою жизнь боявшийся хотя бы минуту провести в бездействии, месяц лежит в палате ракового корпуса. Месяц – и он уже не убежден в необходимости совершить подвиг, достойный его таланта, оставить людям после себя новый метод поиска руд и умереть героем (двадцать семь лет – лермонтовский возраст!).
Всеобщее уныние, царившее в палате, не нарушается даже пестротой смены пациентов: спускается в хирургическую Демка и в палате появляются двое новичков. Первый занял Демкину койку – в углу, у двери. Филин – окрестил его Павел Николаевич, гордый сам своей проницательностью. И правда, этот больной похож на старую, мудрую птицу. Очень сутулый, с лицом изношенным, с выпуклыми отечными глазами – «палатный молчальник»; жизнь, кажется, научила его только одному: сидеть и тихо выслушивать все, что говорилось в его присутствии. Библиотекарь, закончивший когда-то сельхозакадемию, большевик с семнадцатого года, участник гражданской войны, отрекшийся от жизни человек – вот кто такой этот одинокий старик. Без друзей, жена умерла, дети забыли, еще более одиноким его сделала болезнь – отверженный, отстаивающий идею нравственного социализма в споре с Костоглотовым, презирающий себя и жизнь, проведенную в молчании. Все это узнает любивший слушать и слышать Костоглотов одним солнечным весенним днем... Что-то неожиданное, радостное теснит грудь Олегу Костоглотову. Началось это накануне выписки, радовали мысли о Веге, радовало предстоящее «освобождение» из клиники, радовали новые неожиданные известия из газет, радовала и сама природа, прорвавшаяся, наконец, яркими солнечными деньками, зазеленевшая первой несмелой зеленью. Радовало возвращение в вечную ссылку, в милый родной Уш-Терек. Туда, где живет семья Кадминых, самых счастливых людей из всех, кого встречал он за свою жизнь. В его кармане две бумажки с адресами Зои и Веги, но непереносимо велико для него, много пережившего и от многого отказавшегося, было бы такое простое, такое земное счастье. Ведь есть уже необыкновенно-нежный цветущий урюк в одном из двориков покидаемого города, есть весеннее розовое утро, гордый козел, антилопа нильгау и прекрасная далекая звезда Вега... Чем люди живы.