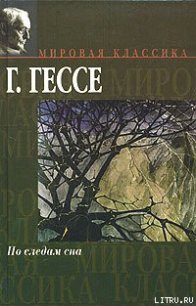Правдивое комическое жизнеописание Франсиона - Сорель Шарль (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
— Я позволил себе, государь мой, — сказал он, — явиться сюда и добиваюсь чести предложить вам свои услуги; мне не хочется долее лишать себя удовольствия беседы со столь выдающимся умом, от коего жду я себе немалой пользы; так как я несколько времени тому назад написал вирши, то буду счастлив узнать о них ваше суждение; зовут меня, с вашего разрешения, Салюстием, — не знаю, слыхали ли вы обо мне.
Гортензиус неоднократно видел стихи, напечатанные под его именем, и хотя не знал поэта лично, но, наслышанный об его заикании, поверил в то, что это действительно он, и, пригласив его присесть, наиучтивейшим образом поблагодарил за оказанную честь.
Тогда мнимый Салюстий вытащил из кармана эклогу и прочел ее. Гортензиус, желавший показать остроту своего ума, нашел возражение против каждого стиха, но в конце концов сказал, что для начала это очень хорошо и что автор со временем будет писать лучше. Эклюзий поблагодарил его за принятый на себя труд прослушать вирши, а затем, откланявшись, направился ко мне и сказал, что теперь моя очередь изобразить ту же персону и что мы получим от этого большое удовольствие. Он пересказал мне приветственную речь, с коей обратился к Гортензиусу, а я, придя тотчас же к нему, повторил ее с такими длительными заиканиями, что останавливался по четверть часа на каждом слове, и под конец тоже назвался Салюстием. Он выслушал меня терпеливо, ибо не было ничего невозможного в том, чтоб в Париже нашлось два поэта по имени Салюстий и чтобы оба оказались заиками, но когда я начал читать эклогу, только что им прослушанную, он пришел в недоумение и сказал:
— Государь мой, перед вами ушел отсюда дворянин, которого так же, как и вас, зовут Салюстием; он показал мне те же стихи: кто из вас обоих написал их? Возможно ли, чтоб ваши мысли так же совпадали, как и ваши имена, и чтоб вы сочиняли на одинаковую тему и одинаковыми словами? Клянусь честью, тут есть какое-то недоразумение: не знаю, кто из нас обманут, но ищите Себе кого-нибудь другого, чтобы ценить ваши стихи; я уже достаточно их наслушался, и они мне надоели; спросите у другого Салюстия, что я о них сказал. По этим его словам я догадался, что он сильно рассержен, а потому покинул его без дальних церемоний. Настоящий Салюстий прибыл немного спустя и отнесся к нему с приветствием, похожим на наше, по крайней мере по существу, ибо что касается до умения говорить, то он нас превосходил и заикался гораздо искуснее и вообще лучше подражал самому себе, нежели мы ему. Тем не менее, когда он также отрекомендовался Салюстием и попытался продемонстрировать экологу, то Гортензиус насильно вытолкал его из горницы, и, если б наш поэт не удрал, ему пришлось бы пересчитать ступени.
— Чтоб ему ни дна ни покрышки! — воскликнул ученый муж. — Да этот будет похуже остальных: он заикается еще больше. До вечера, что ли, не перестанут они шляться! Верно, это какие-нибудь любители легкой наживы, просто мошенники, которые покушаются на мое добро. Кто бы теперь ни пришел, я не отопру дверей, пока он себя не назовет; а если это окажется заика или еще какой-нибудь Салюстий, то ни за что его не пущу.
Сказав это, Гортензиус вознамерился послать стражников вдогонку за поэтом, дабы задержать его, как вора, но не нашел в доме, где жил, никого, кто согласился бы за ними сходить.
Тем временем Салюстий успел улепетнуть, и мы направились к нему, чтоб узнать, был ли он у Гортензиуса. Тот отвечал, что заходил к нему, но что это какой-то буйный сумасшедший из Пти-Мэзон [196], который не стал его даже слушать и вздумал бить без всякой причины, а потому он был рад-радехонек, когда ускользнул из его рук. Эклюзий не удержался и сообщил ему о нашей плутне, чем так его позабавил, что он предложил всем трем Салюстиям отправиться вместе к Гортензиусу. Это предложение нам понравилось, и мы вернулись к нашему ученому, но, не застав его дома, пошли в печатню, где он правил корректуру. Тут мы заявили ему, чтоб он не гневался за наш поступок, что мы братья и все трое пишем стихи, но что эклогу сочинил на самом деле только старший.
— Я обдумал ваш случай, — отвечал он, — и теперь уже не так сержусь. Мне показалось вполне возможным, что вы все трое написали эту эклогу: старший составил начало, второй — середину, а младший — конец.
— Так оно и есть, — подтвердили мы, — но у нас не хватило смелости сказать вам об этом.
На сей раз Гортензиус поверил, но впоследствии ему открыли наш обман, после чего он перестал благоволить к нам и порочил нас повсюду, где ему случалось быть. Мы решили отомстить ему каким-нибудь забавным образом, а так как он хотя и не ездил верхом, но, корча из себя дворянина, ходил постоянно, как Амадис Галльский, в сапогах со шпорами, то мы несколько раз пользовались этой его слабостью для своих насмешек. Сапоги его были так истрепаны, что, может статься, носил их еще архиепископ Турпин [197], отправляясь против сарацинов вместе со славным королем Карлом. На них много раз обновляли подметки, и, кажется, не было в Париже такого сапожника, который бы их не знал и не поставил на них хотя бы одной заплаты. Голенища были зачинены сверху донизу, и трудно было назвать их теми, которые он некогда приобрел, чем они уподоблялись Тезееву кораблю, стоявшему в Афинской гавани: когда на них образовывалась дыра, Гортензиус прикрывал ее бантиком из тафты, дабы казалось, что это сделано нарочно и украшения ради.
В некий день, когда он шел в своих сапогах по городу, мы подпоили как следует нескольких знакомых приставов, которые, будучи полупьяны, схватили его по нашему наущению за шиворот в маленькой уличке, выходящей на Сыромятную набережную. Они стали вопить, что его надо отправить в тюрьму и что он злодей, поранивший сына одного почтенного парижского горожанина. Несмотря на протесты Гортензиуса, пристава потащили его в Фор-л'Эвек в то самое время, когда там заседал судья. Его привели к этому последнему, и некий человек, подосланный нами, подал челобитную и заявил, что Гортензиус сегодня поутру, пустив свою лошадь вскачь, чуть было не убил его ребенка, какового сбил с ног и ранил в голову; поэтому отец просил о предварительном исполнении и требовал возмещения издержек на лечение, а также прочих убытков и проторей с процентами. Желая проверить справедливость жалобы, судья допросил Гортензиуса; тот отрекся от всего, однако, будучи в сапогах, не посмел сознаться, что никогда не ездит верхом; но в конце концов ему все же пришлось сказать следующее:
— Ах, государь мой, как мог я ранить этого ребенка, сидя на лошади, когда я в жизни своей не ездил верхом и, отправляясь к себе на родину, всегда пользуюсь почтовой каретой, что готов вам доказать. Когда я был ребенком, государь мой, меня посадили на осла: он оказался таким брыкливым, что свалил меня наземь и вывихнул мне руку; с тех пор я не хотел иметь никакого дела с животными.
Судья велел ему привести свидетелей в доказательство того, что он никогда не ездит верхом; Гортензиус попросил отсрочки, каковую ему было согласились предоставить, но в конце концов поверили его клятве, и он вышел из тюрьмы, каким вошел, если не считать кое-каких деньжонок, которые ему пришлось раздать приставам. Будучи оправдан, таким образом, он чуть ли не сердился на то, что его не обвинили в означенном преступлении, ибо ему хотелось убедить всех, будто он хоть иногда садится на лошадь. Мы угадали мысли Гортензиуса и с тех пор не переставали насмехаться над его дивным приключением. Наконец наши издевки навели его на мысль, что лучший способ от них избавиться — это не сердиться и хохотать вместе с нами; а потому, когда мы однажды встретились с ним в книжной лавке и затеяли разговор об обуви, он заявил, что скажет похвальное слово сапогам [198], и, строя из себя балагура, изрек следующее:
— О, сколь преступна небрежность авторов, изучавших происхождение предметов и не оставивших нам письменного свидетельства о том, кто изобрел ношение сапог! Сколь неблагорассудительным и тупым разумом обладали наши предки, пользовавшиеся сей прекрасной обувью лишь для ходьбы по полям, а в городе лишь для верховой езды, тогда как мы оказались такими догадливыми, что носим ее не только когда скачем на лошади, но и когда ходим пешком! Ибо нет лучшего способа сберечь шелковые чулки, с которыми грязь ведет постоянную войну, особливо в городе Париже, прозванном за свой lutum Лутецией [199]. Разве не гласит поговорка, что руанские фрянки и парижская грязь сходят только вместе с кожей. И разве не является огромным преимуществом то, что, разгуливая пешком и желая тем не менее прослыть всадником, вам достаточно надеть сапоги, хотя бы у вас и не было лошади, ибо прохожие сейчас же представят себе где-нибудь в стороне лакея, держащего под уздцы вашего коня. Один иностранец даже как-то удивлялся, где это во Франции растет столько травы и овса, чтоб накормить лошадей всех тех господ, которые расхаживают в сапогах по Парижу; но его скоро исцелили от такой невежественности, объяснив, что тем господам, которых он встретил, содержание лошадей не стоит ни единого гроша. А поскольку все порядочные люди ходят ныне в сапогах, это показывает, что сапоги являются основным атрибутом дворянина и что в сем отношении мы следуем примеру благородных римлян, носивших своего рода полусапожки, каковые они именовали котурнами, оставляя смердам открытую обувь, называемую сокком, доходившую только до лодыжки, подобно тому как мы предоставляем башмаки людям низкого происхождения; но у римлян были сапожки, а не настоящие сапоги. Если б они их знали и оценили их полезность, то воздвигли бы им храм, равно как и прочим предметам, коим поклонялись, и в алтаре стояла бы богиня в сапогах и со шпорами, жрецами и первосвященниками коей были бы кожевенники и сапожники, а в жертву ей закалывали бы коров, дабы выделывать сапоги из их кожи. Но зачем воздвигать им храм, раз всякий носит их в сердце и на ногах, а иной три года проходил только в этой обуви, для того чтоб казаться более удалым и выносливым? Рыцари Круглого Стола носили свои доспехи не снимая, словно латы приросли им к спине. Кентавры не слезали с лошади и сидели на ней крепко, как бы составляя одно тело со своим животным, почему поэты и выдумали, будто они полулюди-полулошади. А поскольку и мы не расстаемся с сапогами, то являются они как бы одним из наших членов, и, когда кто-нибудь умирает на войне, мы говорим только: «погиб малый вместе с сапогами», словно были они истинным обиталищем всаднической души и она пребывала там в такой же мере, если не в большей, чем в теле вообще. Да и, по правде говоря, лучше бы человеческому разуму помещаться в сапогах, дабы направлять лошадь при всяких обстоятельствах, ибо от этого зачастую зависит наше спасение. Мне скажут, что некий барон, повстречав в полях любезную его сердцу пастушку, передал лошадь лакею и повел девицу в уединенное место, где намеревался сорвать розу; пастушка же попросила разрешения разуть его перед любовной игрой, дабы не испачкал он ей юбки и башмаков, но стянула сапоги лишь наполовину, а сама убежала, и остался он стреноженным, так что не успел ступить и шага ей вдогонку, как упал в терновник, исцарапавший ему все лицо. Вот действительно печальное происшествие, но в нем надо винить глупость того, кто позволил себя провести, а порицать сапоги ничего. В них шатаемся мы по непотребным местам, в них обделываем дела и в них навещаем возлюбленную. Носить их стало необходимостью для всех приличных людей, которые хотят казаться не тем, что они есть. Когда вы одеты в черное, вас принимают за горожанина; когда вы одеты в цветное, вас принимают за скрипача или за гаера, особливо если на вас чулки разного цвета; но все эти предрассудки отпадают, когда мы в сапогах, придающих пышность любой одежде. Пусть же никто не осуждает меня за ношение сапог, если не хочет прослыть чудаком.
[196] Старинная парижская лечебница для умалишенных.
[197]Турпин (ум. ок. 800) — архиепископ реймеский, легендарный герой эпических поэм и рыцарских романов, предполагаемый автор хроник жизни Карла Великого и Роланда.
[198] Здесь Сорель помещает «Похвалу полезности сапогов», написанную им в 1622 г. в подражание шутливому трактату А. д'Обинье «Великое преимущество сапогов в любую погоду для тех, у кого нет лошади» (1616).
[199] Lutum (лат.) — «грязь». Лютеция (лат. Lutetia) — поселение паризиев (о-в Сите), древнее название Парижа.