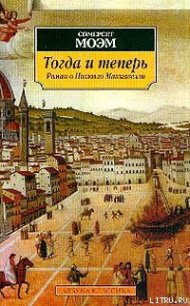Сочинения великих итальянцев XVI века - Макиавелли Никколо (читать бесплатно полные книги .txt, .fb2) 📗
Джусто. О как ты правильно говоришь! Конечно, если бы люди любили друг друга, отпала бы необходимость во всяком законе; ведь не было бы убийств, воровства, лихоимства, разбоя; наконец, все жили бы в покое, как я понимаю, подобном тому, какой царил в мире в золотом веке.
Душа. Точно так же злонамеренность рождается из-за того, что противоположно любви и вызывает злобу и зависть к чужому благу. Поэтому, если ты хорошенько подумаешь, то убедишься, что все недобрые люди завистливы.
Джусто. Завистливы не только злодеи, но и глупцы.
Душа. Это потому, что глупость — тоже несовершенство человека; оставшись без руководства хорошего ума, она порождает бесконечно много дурного. Ведь поскольку глупцы с помощью собственных способностей и доблестей не могут добыть себе богатства и почести, которых жаждут, они пытаются заполучить их тысячью неправедных и запретных способов, стараясь действовать тайно и не заботясь, что это может принести несчастье другим. Как же это нечестиво, чтобы не сказать больше, если даже дикие звери с отвращением избегают подобных действий и, когда хотят причинить вред друг другу, делают это открыто и применяют только силу. А тем временем люди, прикидываясь друзьями и пуская в ход множество хитростей, каждый день коварно обманывают друг друга.
Джусто. Как ты мудро говоришь, Душа моя, и как правильно! А если кто хочет в том убедиться, пусть придет к нам, ремесленникам, и обнаружит со всей очевидностью, что все злые и глупые люди завистливы.
Душа. То же самое происходит и с учеными, и у них как недалекие, так и злобные только и делают, что отвлекают людей от ученых занятий, недалекие — чтобы самим быть в почете, а этого не произойдет, если обнаружится их ничтожество, которое они скрывают, хуля других и ничего больше не делая; а злые — чтобы другой не вкусил от того блага и почета, которые, по их мнению, должны принадлежать им.
Джусто. А как они себя ведут?
Душа. Говорят, что нет в мире ничего сложнее науки; а я тебе сказала недавно, что это занятие больше всего соответствует природе человека, а потому и самое легкое.
Джусто. Ей-Богу, ей-Богу, у меня раскрываются глаза, и я начинаю понимать то, о чем раньше не догадывался.
Душа. Ты должен знать, что науки делают мудрого и доброго человека еще более мудрым и добрым, а глупого и злого еще более глупым и злым. Неужели ты не знаешь, что были ученые, пренебрегшие, не говорю уж Божьим именем, которое следует почитать превыше всего, но и собственной честью и тем, что ценно в мире, а чтобы прослыть умниками, они написали множество сочинений во вред и поношение другим людям? Я не говорю о тех сочинениях, которые уже своими названиями предупреждают, что они такое, как, например, «Придворная жизнь»[471] и «Диалог о лихоимстве», хотя и их было бы достаточно, чтобы запятнать первому — честь римской Лукреции,[472] а второму — щедрость Александра Великого. Но я говорю о тех сочинениях, которые под видом добра учат всевозможным злодействам, как, например, «Книга о трех видах целомудрия», «Толкование чудес» и многие другие, которые следовало бы уничтожить.
Джусто. О как верно ты говоришь! И нужно было бы предупредить кого следует, чтобы не отдавали в печать все что ни попадя.
Душа. Кто же тебя может убедить лучше, чем опыт? А он, если рассмотришь со вниманием, покажет тебе, что все ученые, добрые от природы, стремясь передать те блага, которыми наделил их Бог, будут поощрять каждого — конечно, по-разному, в зависимости от его положения и возможностей — развивать свои доблести. И если увидят плотника, воодушевят его, по крайней мере, математическими науками; так в наши дни Джулиано дель Кармине, этот образ Божий (назову его так, ведь он столь же щедро, как Бог, делился своими благами), поступил с плотником Камерино, которого сделал таким знатоком математики, что он, наверное, не уступит никому из тех, кто ревностно изучал подобные науки, а также латинский и греческий, о которых у Камерино нет ни малейшего представления. И так же будут поощрять аптекаря изучать медицину и, наконец, любого — изучить то, что, по его мнению, должно принести ему пользу и почет.
Джусто. Ты безусловно права. Помню, Маттео Пальмиери, о котором ты вчера говорила, вечно только и делал, что поощрял развивать свои доблести каждого, в каком бы тот ни был звании; и он частенько говаривал: между тем, кто что-нибудь знает, и тем, кто ничего не знает, такая же разница, как между картиной и натурой. Точно так же мессер Марчелло, тоже мой сосед, не просто добрый человек, а прямо сама доброта, всякому малышу, о чем бы тот его не спросил, говорил в ответ все, что ему об этом известно, — так велико было у него желание поделиться своими знаниями; и он часто приводил высказывание Платона, что человек рожден, чтобы приносить пользу другим людям.
Душа. Что еще нужно? Разве мы вчера не вспомнили святого и ученейшего старца мессера Франческо Верино,[473] замечательного философа, превзошедшего всех своих современников? Не раз, когда он толковал о философии и видел, что его пришел послушать капитан Пепе, не понимавший по-латыни, он тотчас же переходил на вольгаре, чтобы и тот мог его понять. А потом, незадолго до смерти, чтобы показать свою бесценную доброту, он во время публичного чтения во Флорентийском Студио[474] двенадцатой книги божественной Аристотелевой Философии пожелал изложить ее на вольгаре, чтобы она была понятна людям любого общественного положения, тем самым утверждая вместе с апостолом Павлом, что он одинаково должен невеждам и мудрецам.18
Джусто. Да, таковы добрые люди. Но неужели философские вопросы могут обсуждаться на вольгаре?
Душа. А почему нет? Разве вольгаре, подобно латыни и другим языкам, признанным прекрасными и благими, не способен выражать различные понятия?
Джусто. Я, как ты знаешь, небольшой знаток в такого рода вещах и не могу тебе ответить, но слышал от многих современных мудрецов, что нет.
Душа. Джусто, это одна из вещей, говорить которые побуждает их зависть. Но вскоре по милости нашего главного Герцога, всячески превозносящего вольгаре, с глаз спадет пелена.19 Правда, уж давным-давно люди могли бы от нее освободиться, стоило им только принять во внимание писания фра Джироламо из Феррары, который на нашем языке писал о самых высоких и сложных материях с не меньшей легкостью и совершенством, чем любой латинский писатель.[475]
Джусто. Да, но этот фра Джироламо не был ведь флорентийцем.
Душа. Это правда. Но подумай-ка хорошенько, какую огромную пользу (я говорю о языке) принес ему приезд во Флоренцию: любой может увидеть разницу между сочинениями, написанными им сразу по приезде, и позднейшими.
Джусто. Не знаю. Но я сам всегда думал, что кто не знает латыни, многого не стоит.
Душа. Да, он не станет хорошим нотарием. Но между прочим нотарии знают лишь грамматику Ceccoribus,[476] которая требует только, чтобы слова заканчивались на согласные. Но шутки в сторону; грамматика, или, вернее сказать, латынь, — это язык, а делают людей мудрыми не языки, а науки: ведь иначе получилось бы так, что тот еврей, который держит сейчас ювелирную лавку на углу де'Пекори и знает восемь или десять языков, оказался бы самым ученым человеком во Флоренции. Да что там говорить! Скворец, подаренный папе Льву,[477] был бы ученее, чем те, кто сведущ только в латинском языке, потому что умел говорить «Добрый день» и многое другое на вольгаре, греческом и латыни.
Джусто. Вот как? Ты шутишь: этот скворец не понимал ничего из того, что говорил, а говорил так, потому что его научили.
Душа. Ну вот, ты правильно меня понимаешь. Людей делают мудрыми не языки, а субстанции, и хотя они обозначаются словами, все равно тот, кто понимает только слова, всегда останется ничтожеством. Ответь, если мне пересказали на вольгаре суждение Аристотеля «Всякая вещь, ремесло и наука стремятся к благу» и я его понял, есть ли нужда передавать его на греческом или латыни?