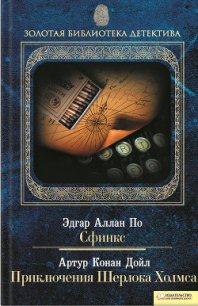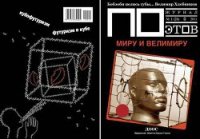Скифы и Сфинксы (выпуск №7, 2011г.) - Кедров Константин Александрович "brenko" (книги без сокращений txt) 📗
у запруды, что скрыта муаровой тиной.
А болото тут было всегда.
Это мы – иностранцы.
Да-да...
27.02.11
----------------------------------------------------------------
Александр Бубнов
доктор филологических наук
ДООС – палиндрозавр
Курск
Фантазия...
В основе визуального стиха – реальная надпись на скифской чаше
-------------------------------------------------------------------
Хадаа Сендоо
Улан-Батор, Монголия
Монгольские слова
Монгольские слова
Несущиеся вскачь, поющие
Подобные большому табуну
На вольных пастбищах пасутся
И в каждом сердце
Солнцем и Луной живут
Как будто сразу после динозавров
Они из-под земли рванулись
И вместе с ними на своем коне я мчусь
Слова меня пленяют
Взлетающими гривами
Я радуюсь, ликую и печалюсь
Я ими опьянен – и так бывает
Я их читаю женщинам
Идущим и бегущим
По улицам, тропинкам
Таким волнующим и одиноким
О, мои великие Есугей и Оэлун
Я очарован
Голосами древними
Оленей и волков
Вещающих свое великолепье
По всей Европе, Азии
И Средиземноморью
Сияньем озаряя
Пустыни, горы, реки и долины
Верблюдов, коз и даже звезды
А буквы родной Монголии моей
Как будто кони с привязи сорвались
И с цокотом подков по всей земле бегут!
Собрала разбежавшиеся монгольские слова по-русски Александра Заболотская
Казань
-------------------------------------------------
Надежда Агафонова
Николаев, Украина
Пой дождю осанну
В этом городе
С названием кодовым
У меня на тебя
Мода.
И дождливая плакса-погода –
Лучшая из кутюрье.
Восемьдесят тысяч лье
Под водой
Мы плыли.
Играли – шутя – в морской бой.
Оставь мне хотя бы один кораблик.
Я хочу вернуться на нём
Домой.
Комкаю веки. Шепчу: «Крибле-крабле…
Бумс!..»
Где же дом?
Нет ни кошки, ни ложки.
Лишь берег. Лишь ряскою
Лодка обросшая, где ты –
Мой… Харон.
Подайте монету!
Карандашом по листу –
Как стилетом.
Я убью тебя,
Лодочник,
Завтра, к обеду –
Откровением рифмы
В графитовом карцере.
В реку забвения
Лью ламентации:
Ты –
Моя Родина,
Ты –
Моя ФРАНЦИЯ.
Пой, если сможешь,
Дождю осанну.
Мне час до костра.
Мне имя – Жанна…
* * *
Завидев падающую звезду,
Не спеши загадывать желание.
Это плачет Свет.
О твоей душе.
* * *
Проиграла тебя в Жизнь.
Проиграла тебя в Смерть.
Последний козырь
Прилип к душе.
Отдираю с мясом,
Складываю самолётик,
Запускаю в небо.
------------------------------------------------------------
Айя Рум
Санкт-Петербург
ьъ
я пишущая машинка
я крыса, шпион и двойной агент
я жертва, убийца и великий поэт
внутри меня стук
и сама я стучу по бумаге
свинцовыми буквами смысла
свинцовыми пулями правды
свинцовой дробью надежды
буква О пробивает бумагу насквозь
буква Р заедает
я немного картавлю
полтора десятка букв стерто
полтора десятка отвалилось
я пишущая машинка
у меня работают две буквы
одна твердый знак
одна мягкий знак
я напишу гениальную поэму
из двух букв
которая изменит вашу жизнь
жаль только, что я не смогу прочитать вам ее вслух...
спать внутри крокодила
спать внутри крокодила
уютно свернувшись сотенной банкнотой
словно в бумажнике
и ни о чем не думать
подключившись к мозгу рептилии
видеть сквозь зеленую толщу воды
рыб, антилоп и черепах
не думать неокортексом
просто смотреть
это так здорово
спать внутри крокодила
и ни о чем не думать
-------------------------------------------------------------
«Амазонки усвоили язык своих мужей-скифов, и когда те пожелали вместе с амазонками вернуться к скифам, амазонки отказались: «Мы не можем жить с вашими женщинами. Ведь обычаи у нас не такие, как у них: мы стреляем из лука, метаем дротики и скачем верхом на конях; напротив, к женской работе мы не привыкли» … От брака скифов с амазонками произошли савроматы, говорящие на искаженном скифском языке, так как амазонки плохо усвоили язык. С тех пор савроматские женщины сохраняют стародавние обычаи: вместе с мужьями и даже без них они верхом выезжают на охоту, выступают в поход и носят одинаковую одежду с мужчинами»
Геродот «История»
----------------------------------------------------- Михаил Зенкевич Мужицкий сфинкс
Фрагмент
Революция застала Семена Палыча за обычным занятием — обучением очередной маршевой пулеметной команды и быстро по-праздничному перевернула привычный серый уклад его солдатской жизни. Выгнала из закоулков казарм и стрельбищ и понесла из Ораниенбаума сначала в строю с музыкой к белому барскому особняку Таврического дворца, а потом на грузовиках с пулеметами по грязному шоссе к цитадели Советов – Смольному. Скоро он сменил жестяную трехцветную кокарду на серой шапке на красную жестяную звезду, превратился из солдата в красноармейца и пошел с пулеметом уже не на австрийцев и германцев, а на Колчака и Деникина. – Ну, Ленин удумал. Рази может один человек все переворотить? Сам народ перемутился. Я учитываю все положение и сужу так с точки зрения моей правильности. Для чего-нибудь живет же человек и удумыват, как лучше быть... Семен Палыч редко выскажется напрямик, без обиняков. Он долго крутится вокруг да около, словно боится спугнуть свои мысли, медленно наезживает их телегой, как дроф в степи. – Инвентарю нет... Все мы можем производить по-нашему, по-крестьянскому, а вот с железом нам трудно... Как говорится, один с сошкой, а с ложкой-то и не сосчиташь сколько, – жалуется он. – Деньги не Бог, они милуют и больше разума дают... Я смотрю на лицо Семен Палыча, такое же серое, невзрачное, знакомое, как тысячи крестьянских лиц, похожих друг на друга, как один загон в поле на другой, и вдруг вспоминаю стихотворение в прозе «Сфинкс» Тургенева. Вот он, этот мужицкий сфинкс, с муругим скуластым, из серого булыжника высеченным ликом! В желто-соломенной пустыне созревших хлебов, среди приземистых пирамид скирдов и одоний, под тихим немеркнущим заревом поздней летней зари повернул он ко мне простое, плоское, непроницаемое лицо и предлагает разрешить свою, неведомую ему самому загадку...
– От мертвой пчелы кануна не будет, – прерывает мои размышления Семен Палыч и идет подметать метлой с тока в кучу обмолоченное, но еще не провеянное зерно с мякиной. Мне уже не чудится в нем ничего загадочного, сфинксоподобного. Вероятно, все это было только миражной игрой необычного облачного освещения. Тем не менее неожиданно промелькнувшая мысль о мужицком сфинксе занимает меня, и я обдумываю ее, бродя за скирдами вокруг гумна. Мне вспоминается мужик Марей Достоевского и Платон Каратаев Толстого. Разве Семен Палыч не укрыл меня на пашне от преследования петербургских кошмаров, как Марей напуганного криком о волке мальчика? Разве он не сносил покорно десятилетнюю военную страду, как Платон Каратаев? Но ведь он совсем не похож на них или, вернее, похож только в одном: от него исходят вместе с крепким мужицким запахом те же темные тепловые лучи, как от парной весенней земли, от наливающегося зерна. <… > Он, по собственному его выражению, убивец – «такого убивца поискать», но с ним совсем не жутко, – сидя здесь на теплом току около пшеничного умолота и слушая его рассказы, думаешь, что и война, и революция – только глубокая вспашка, сев человеческих жизней для урожаев будущего, а самая отдача жизни кажется такой же простой и нестрашной, как бросание зерна в землю. Что за беда, если часть драгоценных полновесных зерен осыпается зря – «без урону никак нельзя», без этого не совершается севооборот веков у расточительного скопидома – времени. Семен Палыч оторвался со своей Непочетовкой от прошлого и еще не нашел лучшего будущего. <…> Путь к будущему для него еще темен, он часто сбивается с большака и, потеряв вешки, нащупывает валенком и кнутовищем под рыхлым снегом твердый, накатанный наст, как обоз на розвальнях в буран. И я верю в эти осторожные мужицкие поиски, вспоминая слова Семен Палыча: «Для чего-нибудь живет же человек и удумыват, как лучше быть». <…> Умаявшись за день, он скоро засыпает. Но мне спать не хочется, я лежу на спине, лицом к звездам, смотрю на белую, блестящую прямо надо мной в зените Вегу, вспоминаю о мужицком сфинксе и начинаю складывать и шепотом про себя бормотать стихи: По глазам полянин, по скулам финн. Миллионы таких безликих обличий, Чернозема, суглинка и супеси сфинкс, Неразгаданный сфинкс мужичий! В белом мареве дальних полярных морей Век, как летнюю ночь, со мной коротая, Родимчик рукою сними, как Марей,