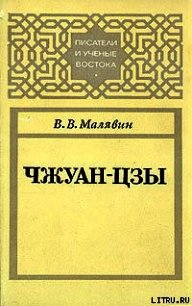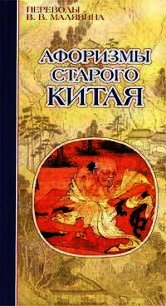Военный канон Китая - Малявин Владимир Вячеславович (книга бесплатный формат .TXT) 📗
Вновь найденный трактат Сунь Биня наследует основным положениям «тринадцати глав» Сунь-цзы, но отличается гораздо большим вниманием к военной тактике, способам и средствам подавления противника. Ее тональность заметно ближе циничному практицизму и диктаторским замашкам законников. На этом фоне стремление Сунь-цзы совместить мораль и войну свидетельствует в пользу более раннего происхождения его книги. В то же время Сунь-цзы нужно поставить в заслугу инкорпорирование военной теории в общее русло китайской духовной традиции.
Мировоззренческие основы китайской стратегии
Китайская военная стратегия – органическая часть общекитайского мировоззрения. Поскольку принципы этого мировоззрения, с одной стороны, непривычны для западного читателя, а с другой стороны, составляют прочное и в своем роде систематическое единство, их краткий обзор облегчит понимание особенностей китайской военной теории.
Подлинным ядром китайского миросознания является представление о реальности как перемене, превращении во всех смыслах этого слова. Именно идея превращения и, в конечном счете, спонтанной самотрансформации обеспечивала органическое единство психологических, нравственных, политических и космологических измерений китайской культурной вселенной. Перемена – самоочевидная данность природного мира, но она имеет глубокие корни и в жизненном опыте человека. Сознание рождается из опыта цельности в движении, динамического единства телесного (со)присутствия в мире. Китайская мудрость не склонна полагаться на данные умозрения, тем более «чистого». Она взращена способностью к почти по-детски доверчивому, но в своем роде очень мужественному восприятию и приятию жизни «как она есть».
Осмысление реальности в модусе перемен имеет свои правила и свой логический порядок. Оно требует признать, что, согласно традиционной китайской формуле, «всякая вещь, достигнув своего предела, переходит в свою противоположность» и что подлинное бытие вещей удостоверяется именно этим актом трансформации всего сущего. Следовательно, каждая вещь есть именно то, чем она не является: все сущее погружено в бездну не-сущего, выходит из нее и в нее возвращается. Однако это не-сущее тоже не имеет своего бытия, оно есть только вездесущее самоотсутствие, которое одновременно не может быть и не может не быть. Что же есть сущее и несущее? Одно пребывает в другом. Но есть еще сам момент превращения одного в другое, и в нем сквозит подлинная бесконечность, им держится все сущее-несущее. Эта двусмысленность может быть замечательно выражена по-английски: nothing is better than everything. «Ничто» в этом выражении может быть и существительным, и обстоятельством. Истинно первое, но эта истина всегда скрывается «обстоятельствами местами», неотделима от них.
В конечном счете, всякая вещь есть единство или, лучше сказать, совместность противоположностей. Весь мир в таком случае – это «одна вещь», мудрость же есть знание способа (именно: пути – дао) взаимных превращений одного в другое. Все это означает, что для китайцев реальность всегда целостна, но эта целостность – не формальное, самотождественное единство, а своего рода двуединство, единство сложное, сложенное из себя и доступное только символическому, иносказательному выражению. Такая иносказательность тесно связана с церемонностью, ритуальным поведением. Со временем она приобрела даже бытийственный статус: весь видимый мир был опознан как «обманчивый образ», который, за неимением ничего другого, в своем роде совершенно реален.
Китайская мысль и китайская словесность имеют вид бесконечно ветвящейся глоссолалии: в них все есть иносказание другого. Для китайцев мир – родное бытие в том смысле, какой вкладывал в это слово Н. Федоров: родное принадлежит моему «большому я», прикровенному «мы» бодрствующего сознания; мир в своей инаковости – не чужой мне, объективное и субъективное друг в друге продолжаются. Люди связаны более безусловной связью прежде и превыше всех понятий, и эта связь обеспечивает неразрывное единство власти, морали, жизненного успеха и удовольствия. Мировой порядок – непосредственное выражение внутреннего состояния мудреца: кто управляет собой, имеет «царя в голове», тот исцеляет мир.
Китайская концепция войны – отличная иллюстрация к сказанному. Она носит всеобъемлющий характер, настолько всеобъемлющий, что в чисто китайском вкусе превосходит собственные рамки и находит свое подлинное оправдание в чем-то противоположном. Для китайцев война существует еще до войны и даже вовсе без войны, растворена в политике и в высших своих формах… вообще не видна. В своей неприметности она принадлежит одновременно игре ритуальной коммуникации и жизненному инстинкту, непосредственной данности психики – например, внезапному испугу от явления «другого», что в Китае называлось «небесным» (т. е. непроизвольным) устрашением. Побеждать в Китае полагалось именно так: внезапным явлением безмерной мощи, парализующим волю. Таково явление бездны «другого».
Отметим, что в этих взаимных наложениях, взаимных переходах полярных величин нет места трансцендентному началу, самостоятельному субъекту способному творить вещи своим промыслом или хотя бы задать миру движение. Превращение как таковое – реальность самозарождающаяся, имманентная потоку жизни. Она есть безусловная «таковость», «сама по себе такая» (цзы жань) действенность существования, предстающая бездной мировых метаморфоз, прообраз самопроизрастания живого организма. Эта безмерная жизненная мощь – реальность одновременно бесконечно разнообразная, воплощающая уникальное свойство каждой точки пространственно-временного континуума, и безусловное единство таковости как всеобщего принципа существования.
Мир в представлении китайцев – это спонтанная и беспредельная гармония всего сущего, где все сходится и все разделяется в одном превращении и где, поэтому сущность каждой вещи совпадает с ее функциональностью, бытие сливается с качественностью отдельных моментов существования, предстает собственным декором. Такая гармония изначально присутствует в естественном мире, подобно узорам в яшме или прожилкам в древесном листе, шуму леса или стрекоту насекомых, именно потому, что эти явления могут быть опознаны и развиты человеком до самых утонченных форм. Небесное (несотворенная заданность жизни) и человеческое, по китайским представлениям, существуют в «согласном единстве», и человек «дает завершенность работе Неба», когда, например, мы мысленно преображаем узор на камне в прекрасную картину. Техническая деятельность человека и сама человеческая социальность опрокинуты на природную данность жизни, одно полностью преемственно другому. Разумность человека для китайцев как раз и состоит в его способности вверяться простору вселенской гармонии, жить музыкально и находить для чувства мировой гармонии все новые атрибуты и свидетельства, улучшать гармонический строй жизни и, стало быть, жить творчески. Это разумность, которая воплощается в узорочье мира, игре созвучий, цветов, вкусовых ощущений, где условности вкуса и человеческой искусности стоят в одном ряду с естеством вещей.
Для древних китайцев война не могла не быть частью единого общественно-природного порядка, явлением одновременно совершенно естественным и всецело человеческим. В недавно найденном археологами собрании древних текстов, так называемых «Канонах Желтого Императора», говорится, например, что военные действия должны следовать «формам Неба» и «законам Земли», но совершаются они человеком. В чем же заключается собственно человеческий элемент событий мира? Ни в чем ином, как в способности человека к творческому преобразованию обстановки, новому видению вещей, в конечном счете – умению увидеть в одном нечто совсем другое. Это значит, помимо прочего: увидеть иллюзорность привычных истин, но и… истинность того, что кажется иллюзией. Как мы увидим ниже, эти не слишком привычные для европейца посылки оказали глубокое влияние на китайское понимание стратегии.