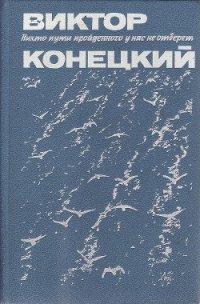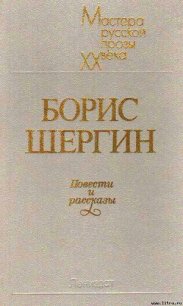Начало конца комедии (повести и рассказы) - Конецкий Виктор Викторович (читать онлайн полную книгу txt) 📗
Вот и вся конан-дойльщина. Конечно, здесь еще была удача, фактор везения, но сыщикам всегда везет.
– Чего ты любишь больше всего в жизни? – спросил я Кудрявцева, когда мы закончили обрабатывать лапу Мобила йодом и забинтовали ее резиновым бинтом.
– Природу и книги, – сказал Кудрявцев.
22 октября, Южная Атлантика, на переходе Рио-Бермуды, траверз мыса Санту-Антониу.
В матросах, как, правда, и во всех двадцатилетних, с которыми сводит судьба, я ровным счетом ничего не понимаю. Главная причина непонимания заключается в том, что я не способен нащупать, угадать, обнаружить духовную цель их жизней. Мне кажется, они просто живут, живут и больше ничего. А мне почему-то хочется видеть у них цель. Однако я знаю, что такое мое желание субъективно. Быть может, «просто жить» куда более философская штука, нежели иметь сформированную словами цель. Быть может, формулирование цели даже убивает ее, как написанное слово убивает тонкость мысли и как чтение модных ныне книг по технике любви, убивает какую-то тайну, которая не убивается, если знания любовной техники приобретаются самодеятельно. (По судну бродит зачитанная до портяночного состояния «Психогигиена половой жизни» К. Имелинского, перевод с польского, «Медицина», Москва. Молодежь штудирует такие книги в длинных рейсах тщательно и неторопливо.)
Уже давно позади момент, когда я впервые сделал великое открытие – со мной на вахте стоит юноша, который, возможно, мой сын. И вот тот парень с чудесной девушкой, которые сидят обнявшись и целуются без всякого стеснения, теоретически могут быть моими детьми. Это открытие поразило меня. Я повернулся лицом к приступочке, на которой стоит вахтенный рулевой у рулевого устройства в ходовой рубке.
Обычно рулевой находится у тебя за спиной. Ты смотришь на указатель положения руля, а не в глаза юноши-рулевого. Это он зрит тебя перед собой, он изучает тебя вахта за вахтой, он впитывает твои плюсы и терпит твои минусы. А ты ходишь перед рулевым по мостику, как по сцене ходит актер, который не знает, что в пустом зале спрятался зритель. И вот я обнаружил зрителя, и мне стало до смерти интересно, что он обо мне думает и что он из себя представляет. С тех пор сотни юношей матросов прошли передо мной. И ни в ком я не понял духовной сути. То есть я смог бы изобразить внешнюю оболочку, оттенить отличия, создать видимость их характеров, но это только натурализм получится, ибо ни в ком я не понял сути. Сплошная тайна. Сплошная закрытость. Сейф. Туманность Андромеды. Черная дыра. Черный ящик. Последнее особенно верно, ибо я могу предсказать, как будет действовать в той или иной ситуации тот или иной из двадцатилетних, но это механическое предсказание, ибо я не знаю внутреннего состояния, которое сопровождает их в том или ином поступке. Их внешнее, правильно предсказанное поведение будет обусловлено моим присутствием, моим на них наложением, они будут действовать в пику или в пандан моей воле. И, зная свою волю, ее направленность, я могу предсказать их поведение. Но я не смогу ничего предсказать, если они будут действовать вне моего поля зрения, вне поля моей воли, моего телекинеза. Там их поступки абсолютно непредсказуемы и удивительны, как поведение электрона на орбите, – если угадаешь время его появления, то не будешь знать состояния; если предугадаешь состояние, не будешь знать места, где этот подлый электрон в данный миг в пространстве находится.
Кудрявцев нарушает принцип дополнительности. Он оказался старомодной доверчивой частицей, которая позволяет без труда определить и ее координаты, и массу, и время прибытия и убытия в данную точку. Кудрявцев слетел с орбиты прямо мне в руки, как доверчивый скворец однажды влетел мне в каюту в Гибралтаре. Я брился возле умывальника, и вдруг в иллюминатор влетел скворец и безо всяких оглядываний и разведок плюхнулся в раковину и стал плескаться под струйкой пресной воды – умываться, с полнейшей бесцеремонностью оттеснив обалдевшего и обмеревшего хозяина каюты. Я захлопнул иллюминатор, вытер мыло с физиономии и уставился на скворца. Тот вволю поплескался, перелетел на стол и уставился на меня.
– Тебя как звать? – спросил я.
– Са-ша! – сказал скворец.
Я пошел на камбуз, выпросил колбаски, нарезал ее длинными червяками, покормил Сашу. Потом открыл иллюминатор – мы шли на север, в Мурманск, делать там скворцу зимой было нечего. Но он не захотел улетать. Он жил у меня в каюте до Гетеборга. Там улетел. И всю стоянку его не было. Но на отходе он оказался в каюте. И ехал со мной до Бергена. И только там исчез. Это была первая и последняя птица, которая пришла мне в руки и вверила себя мне с доверчивостью Дюймовочки или Маленького принца. Если бы я был индусом, то не сомневался в том, что душа того скворца переселилась в Сашу Кудрявцева. И я рассказал ему про тезку-скворца. А он сказал, что очень любит скворцов. И для него праздник, когда супружеская пара скворцов сядет на палубу судна за тридевять земель от земли. И как муж-скворец сразу по-хозяйски носом в какую-нибудь доску стук-стук, по палубе туда-сюда шасть-шасть. А самочка тихо сидит, смущенно, робеет на новом месте, но, видя свойское поведение супруга, тоже начинает обихаживать пароход… Кудрявцев рассказывал про скворцов, и вместе со мной слушал Мобил, хотя пес при всем своем уме и графских лингвистических способностях никак не мог успеть изучить русский язык.
Когда наступила пауза, Мобил встал, прихрамывая подошел к ящику с консервированным пивом и сделал хвостом отчаянной широты жест, который на русском языке обозначает: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!»
И мы хлопнули по баночке.
Кудрявцев отправился на вахту, а я лег спать и:
– «Старику снились скворцы», – сказал бы Хемингуэй.
24 октября. Южная Атлантика.
У Юры родился внук. Вернее это внук Степана, И назвали его Степаном. Ситуация типично книжно-романная. Под командой и по приказу Юры погиб товарищ моей юности. И, как положено в красивом романе, Юра женился на красивой вдове погибшего и воспитал его сына. Ну, а если опуститься в прошлое на четверть века, то там лежит пласт разбитых черепков, о которых Юра, вероятно, не знает. Во всяком случае, не дает мне понять, что об этих черепках что-нибудь знает.
В честь новорожденного Степки солнце поднималось в небеса торжественно и насупленно, как парадный генерал на трибуну. Волны катились, держа равнение на его сиятельство – ряд за рядом, рота за ротой, батальон за батальоном, легион за легионом.
Когда волны освещены в профиль, у них не бывает теней: провалы между гребнями высвечены до самых подошв, до тайны последнего изгиба. Так, наверное, высвечивало римское солнце ряды гладиаторов на арене Колизея.
Пена сверкала серебряными сединами или шлемами над чистой синевой переливчатых кольчуг. И слышался бесстрастный лязг смыкающих опять и опять ряды легионов, когда судно пронзало их бездумный строй.
И если в сверкающем утреннем океане все-таки была диалектическая тьма, то она пряталась под гребнями волн, как прячется суровая тень даже под задранными к трибунам подбородками парадных солдат.
Мы с боцманом Гри-Гри искали подходящее местечко для прогулок Мобилу. И нашли его в корме возле румпельного. Мобил сделал свои дела, поднялся на задние лапы у фальшборта и замер.
Оранжевое с белым – на темно-синем фоне! Торжественное сочетание красок – купола собора или купы осенних крон в вечереющем осеннем небе; золотая парча, свисающая с княжеской ладьи; апельсиновые рощи на Кипре или самолет полярной авиации над синими торосами Антарктиды – вот как выглядел наш Мобил, когда он стоял, подняв передние лапы на фальшборт в корме «Фоминска» и философствовал над морем, вернее, над океаном. Торжественное глубокомыслие без конкретного предмета раздумий, парение духа над бесконечной дорогой Вселенной, бездумье высшей мудрости; покой божественного всезнания, который хранится в глубинах здоровой жизни под толщей тревог о хлебе насущном, о месте под солнцем, о перевыборном собрании, как хранится семечко в яблоке – семя знает все тайны мира, кроме обыкновенных тревог кожуры и боли плоти.