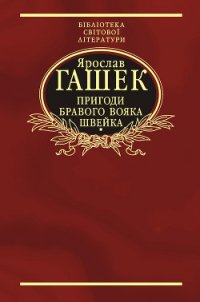Похождения бравого солдата Швейка - Гашек Ярослав (читаем книги TXT) 📗
Тут Швейка перебил старший писарь Ванек:
— Это, Швейк, вы нам расскажете потом, — и тут же обратился к старосте: — Итак, теперь тревога и квартиры!
Староста затрясся и, заикаясь, забормотал, что он хотел устроить своих благодетелей получше, но если иначе нельзя, то в деревне всё же кой-что найдётся и паны будут довольны, он сейчас принесёт фонарь.
Когда он вышел из горницы, которую скудно освещала маленькая лампадка, зажжённая под образом какого-то скрюченного, как калека, святого, Ходоунский воскликнул:
— Куда делся наш Балоун?
Но не успели они оглянуться, за печкой тихонько открылась дверь, ведшая куда-то во двор, и в неё протиснулся Балоун. Он осмотрелся, убедился, что старосты нет, и прогнусавил, словно у него был страшный насморк:
— Я-я был в кла-до-вой, су-сунул во что-то хуку, набгал полный хот, а теперь оно пгхистало к нёбу. Оно ни сладко, ни солёно. Это тесто.
Старший писарь Ванек направил на него фонарь, и все удостоверились, что в жизни им ещё не приходилось видеть столь перемазанного австрийского солдата. Они испугались, заметив, что гимнастёрка на Балоуне топорщится так, будто он на последнем месяце беременности.
— Что с тобой, Балоун? — с участием спросил Швейк, тыча пальцем в раздувшийся живот денщика.
— Это огухцы, — хрипел Балоун, давясь тестом, которое не пролезало ни вверх, ни вниз. — Осторожно, это солёные огухцы, я в чулане съел трхи, а остальные принёс вам.
Балоун стал вытаскивать из-за пазухи огурец за огурцом и раздавать их.
На пороге вырос староста с фонарём. Увидев эту сцену, он перекрестился и завопил:
— Москали забирали, и наши забирают!
Сопровождаемые сворой собак, они все вместе отправились в село. Собаки упорно держались Балоуна и норовили влезть к нему в карман штанов: там лежал кусок сала, также добытый в кладовке, но из алчности предательски утаённый от товарищей.
— Что это на тебя собаки лезут? — поинтересовался Швейк.
После долгого размышления Балоун ответил:
— Чуют доброго человека.
Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак всё время хватала его за руку, которой он придерживал сало.
Во время поисков квартир было установлено, что Лисковец — большой посёлок, действительно сильно истощённый войной. Правда, он не пострадал от пожаров, воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сёл Хырова, Грабова и Голубли.
В некоторых хатах ютилось по восемь семейств. Вследствие потерь, нанесённых грабительской войной, один из периодов которой пронёсся над ними, как бурное наводнение, они терпели страшную нужду.
Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по десять человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную голытьбу, обнищавших и лишённых земли беженцев.
Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарами, поваром и Швейком разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разорённой семьи из окрестных сёл. Поэтому свободного места у него было много.
Ксёндз был высокий худой старик, в выцветшей засаленной рясе. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняло после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хоть у него стояли лохматые забайкальские казаки.
Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мёд из ульев, он ещё более яростно возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошеных ночных гостей; ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злорадно повторять: «У меня ничего нет. Я нищий, вы не найдёте у меня, господа, ни кусочка хлеба».
Более всех этим был огорчён Балоун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросёнке, подрумяненная кожица которого хрустит и аппетитно пахнет. Балоун клевал носом в кухне ксёндза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго-настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили.
Но и в кухне Балоун не нашёл ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, который он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросёнка. За домом священника, во дворе маленького винокуренного завода, горел огонь под котлами полевой кухни. Кипела вода, но в этой воде ничего не варилось.
Старший писарь с поваром обегали всё село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали всё или съели, или забрали.
Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую, столетнюю корову, тощую дохлятину: кости да кожа. Он требовал за неё бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всём мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идёт молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колена то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите».

Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодёр, к полевой кухне. Ещё долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задёшево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу.
Повалявшись ещё немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошёл домой в каморку и сказал жене: «Elsa lebn, [283] солдаты глупы, а Натан твой мудрый!»
С коровой было много возни. Моментами казалось, её вообще невозможно ободрать. Когда с неё стали сдирать шкуру, шкура разорвалась и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты.
Между тем откуда-то притащили мешок картофеля и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом, у малой кухни, повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета.
Эта несчастная корова, если можно так назвать сие редкое явление природы, надолго запомнилась всем, и можно почти с уверенностью сказать, что, если бы перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковецкой корове, вся одиннадцатая рота со страшным рёвом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки.
Корова оказалась такой бессовестной, что даже супа из неё не удалось сварить: чем больше варилось мясо, тем крепче оно держалось на костях, образуя с ним единое целое, закостенелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только «делами».
Швейк, в качестве курьера поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил наконец поручику Лукашу:
— Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твёрдое мясо, что им можно резать стекло. Повар Павличек, попробовав вместе с Балоуном мясо, сломал себе передний зуб, а Балоун — задний коренной.
283
Эльза, жизнь моя (еврейск.)