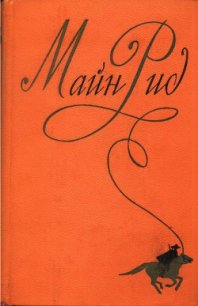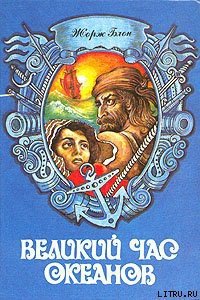Кому улыбается океан - Санин Владимир Маркович (бесплатные серии книг txt) 📗
Мы вместе идем к каюте стармеха. Дед лежит на постели, чинный и серьезный, как святой. А над столом, уставленным всевозможной снедью, хлопочет Гриша Арвеладзе. Мы — это человек пятнадцать ближайших родственников — пьем за здоровье Бориса и с аппетитом закусываем. Мы едим, а он смотрит на нас горящими глазами голодного волка: у него сутки во рту не было маковой росинки.
— Ничего, Дед, — успокаивает Саша Ачкинази, с наслаждением жуя копченую колбасу, — завтра мы тебе наварим манной кашки, и ты тоже набьешь свою утробу.
Дед жалобно стонет.
— И послезавтра манной кашки — отличная еда для отощавшего мужика!
Я рассказываю, что академик Сергей Сергеевич Юдин после операции на желудке давал больному чарку спирта — для дезинфекции внутренностей. Клавдия Ивановна одобрительно кивает головой. В глазах у Деда загорается безумная надежда.
— Это к тебе, Боря, не относится, — с иронией замечает Клавдия Ивановна. — Спокойнее, мой друг, потерпи еще… с недельку.
Дед испускает разочарованный вздох и отворачивается.
А потом мы долго, до поздней ночи, сидим с Клавдией Ивановной, и она рассказывает о своей жизни.
Вот что я услышал от Клавдии Ивановны Кабоскиной, от нее самой, и от тех, кто ее знает.
Совсем молодым врачом она ушла на фронт в первые дни войны, когда практики для хирургов было, увы, слишком много. Ей приходилось делать по двадцать пять операций в день — страшная цифра. Бывало, что отказывались служить ноги, перед глазами расплывались радужные круги, и тогда сестры делали ей уколы, приводили в чувство сильнодействующими средствами. Не работать было нельзя: лишний час сна мог стоить жизни раненому бойцу. Как и все труженики войны, Клавдия Ивановна работала на износ, и как о редком счастье вспоминает она о тех днях, когда можно было передохнуть, нормально, по-человечески поспать.
В 1942 году она оперировала тяжело раненного комиссара полка Писаренко. Врачи приговорили его, но Клавдия Ивановна спасла комиссара и считает эту операцию самой сложной и волнующей в своей жизни. Писаренко долго разыскивал молодого хирурга и, найдя адрес, прислал ей письмо, которое так и пропало во фронтовой сутолоке. Где теперь этот человек, в излечение которого никто не верил, Клавдия Ивановна не знает. Может быть, он откликнется?
В 1944 году во дворе госпиталя под Будапештом разорвался снаряд, и осколками буквально изрешетило пленного венгра. Друзья раненого молча внесли его в госпиталь и, увидев, что операцию собирается делать «девчонка», так же молча ушли. Шесть часов Клавдия Ивановна боролась за угасающую жизнь и победила. И когда венгры, все это время стоявшие во дворе в безнадежном молчании, узнали, что их товарищ будет жить, они так горячо и необычно благодарили «девчонку», что ей даже как-то неловко об этом вспоминать.
— Понимаете, — смущенно рассказывает Клавдия Ивановна, — они подходили, по очереди становились на колени и целовали мне руки.
Много жизней спасла Клавдия Ивановна и после войны, работая заведующей хирургическим отделением одной киевской больницы. Оттуда она в начале 1965 года и ушла в море, неожиданно для всех и для самой себя.
А на море было всякое. И качка, которую сначала Клавдия Ивановна совершенно не переносила (она со смехом рассказывала про гамак, который повесили для нее в медпункте), и недоверие, с которым встретили на траулере женщину-врача, и сложнейшие операции, и всеобщее признание.
Нынче о Клавдии Ивановне рыбаки говорят только в восторженных тонах: о том, как она бесстрашно, при любом волнении моря, прыгает в дорку; как выискивает у рыбаков малейшие намеки на заболевания, особенно связанные с хирургическим вмешательством; как излечивает болезни одним своим авторитетом.
В доказательство приводят такой чуть ли не евангелический случай. На траулере «Муссон» один матрос лежал со столь жестоким приступом радикулита, что его психическое состояние начало внушать окружающим серьезную тревогу. Его мучили сильнейшие боли, которые никак не удавалось снять. Признав свое бессилие, судовой врач по требованию больного вызвал Клавдию Ивановну, которая, осмотрев страдальца, заявила ему:
— Ну, дружок, хватит бока отлеживать. Вставай и иди!
— Ты что, издеваешься? — завопил больной. — Я двинуться не могу!
— Вставай и иди! — ледяным голосом повторила Клавдия Ивановна. — Ты совершенно здоров! Товарищи работают, а ты… Немедленно вставай!
Потрясенный таким надругательством над своим седалищным нервом, больной встал… и пошел. И ходит до сих пор, счастливый.
— Заурядная психотерапия, — смеется Клавдия Ивановна, давая пояснения по поводу чудесного исцеления. — Но в средние века меня бы сожгли на костре как колдунью.
Клавдия Ивановна привыкла к рыбакам, и ей нравится здесь, на море, и необычность обстановки, и сами ребята, крепкие духом и телом, и ни с чем не сравнимая роль судового врача — единственной надежды попавшего в беду рыбака. Из бесед с разными людьми я установил, что, если бы не блестящие операции Клавдии Ивановны, по меньшей мере в шести рыбацких семьях на берегу был бы траур. Со всех судов на «Ореанду», как в хирургическую Мекку, сходятся на операции врачи, они учатся и восторгаются ювелирной работой «флагманского хирурга» — звание, присвоенное Клавдии Ивановне не штатным расписанием, а рыбацким фольклором.
НА ДОРКЕ К АЛЕКСАНДРУ ХАРИТОНОВИЧУ
Все-таки я неслыханно, сверхъестественно везучий человек. Едва лишь наша дорка направилась к «Балаклаве», как старпом Борис Павлович, заглянув в мои глаза, предложил мне стать рулевым. Вы представляете? Стать рулевым в открытом океане! Нет, вы этого не представляете, как сказал бы Гоголь, который, кстати, тоже этого не представлял. Так что в области вождения дорки в открытом океане я, безусловно, превосхожу великого писателя, хотя, с другой стороны, не гожусь в подметки любому матросу.
Я поднял этот вопрос специально для того, чтобы великие люди не зазнавались. Быть может, в определенной области — в политике, сочинении рифм, в искусстве забивать шайбы они и в самом деле гениальны, но в смежных областях — игре в шашки, в вышивании болгарским крестом и вождении дорки в открытом океане — не более чем заурядны. И теперь, когда иной важный человек задирает нос, я сбиваю с него спесь простым и ясным вопросом: «Вы, — говорю я, — действительно крупная личность. Но скажите, умеете ли вы стоять за румпелем на дорке в открытом океане?» И важный человек немедленно тушуется, сознавая, что, имея такой пробел в своей биографии, он должен быть скромен и молчалив. Я знал одного такого, очень солидного человека, у которого на первый взгляд вовсе не было слабых мест: он умел выступать на собраниях, вырубать уголь, завинчивать гайки, сажать капусту и просто потрясающе разбирался в искусстве; но вдруг выяснилось, что он не умеет стоять за рулем, совершенно не умеет. И этому солидному человеку стало так стыдно, что он перестал со мною встречаться.
Однако я отвлекся. Быть может, излишне красноречиво, но искренне поблагодарив Бориса Павловича за доверие, я уселся на корму и обеими руками крепко вцепился в румпель. Но старпом тут же откровенно сказал, что я совершаю позорный поступок. Оказывается, только слабонервные новички держат румпель руками. Настоящий моряк должен стать на корме и зажать румпель коленями. Причем по возможности небрежно. Я, разумеется, так и сделал, хотя, должен признаться, это оказалось сложнее, чем я думал. Стоять на самом краю стремительной дорки, да еще небрежно удерживать рвущийся из дрожащих колен румпель, да еще стараться сохранить равновесие — все это было очень свежее и предельно острое ощущение. К тому же было очень обидно, что никто не обращает внимания на мое героическое поведение, решительно никто. Лишь Борис Николаевич время от времени оборачивался и с неудовольствием замечал:
— Маркович, дорку относит в сторону, вы следите за румпелем?
Попробуй ему объясни, что я слежу не столько за румпелем, сколько за тем, чтобы не свалиться в море!