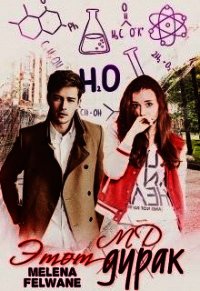Я — начальник, ты — дурак - Щелоков Александр Александрович (книга регистрации .txt) 📗
Тонечка понравилась Рыжову с первого взгляда. Складненькая, с красивыми стройными ножками, с аккуратной точеной грудью она обращала на себя внимание скромностью, трудолюбием и удивительной вежливостью. Она входила в кабинет Рыжова тихо, стараясь как можно меньше беспокоить начальника. Подходила к столу легким неслышным шагом. Останавливалась. Клала на стол принесенную бумажку.
— Это вам, Василий Васильевич. Телефонограмма из райкома партии. Распишитесь здесь. Спасибо.
И бочком, бочком отступала к выходу.
Когда Рыжов смотрел на Тонечку, она скромно опускала глаза долу.
Рыжов догадывался — в коллективе вся незамужняя женская часть поглядывает на него с надеждой и интересом. Война повыбивала мужчин и парней и, тем самым, обрекла на одиночество многих женщин, достойных семьи и счастья. Среди них было немало таких, что готовы взять в мужья самого ледащего, лишь бы в доме запахло мужицким потом, послышались храп и ругань.
Пойти на сближение с Тонечкой Рыжов стеснялся: отсутствие руки угнетало его и заставляло ощущать перед красавицей свою неполноценность.
Тем временем события развивались без его влияния, хотя и при его непосредственном участии.
Рыжов не знал, что старый партиец Клочков, малограмотный и зловредный, долгое время спал и видел, что станет начальником отделения связи, и не было у него в то время мечты хрустальней. Поэтому назначение Рыжова Клочков воспринял как вызов, как личное оскорбление, которое можно смыть только кровью.
Опытный интриган, Клочков не в пример своему наивному инвалиду-начальнику сразу понял, что его шеф слаб в коленках по части плетения многоходовых бюрократических комбинаций, которые быстро и надежно дискредитируют противника, валят его с ног и уже никогда не позволяют подняться.
Клочков тут же легко рассчитал и подготовил такую комбинацию. У него уже был опыт подставок, в ходе которых его конкуренты теряли места, а один даже загремел в Магадан, когда Клочков подловил его на любви к политическим анекдотам. План, разработанный Клочковым, был предельно прост и эффективен.
В один из дней Рыжова вызвали в райком партии и объявили, что хотят рассмотреть его персональное дело. В партийную комиссию, рассматривавшую дела об аморалке, поступило заявление о разложении начальника узла связи и попытках склонять к сожительству своих подчиненных.
В тесном помещении, которое предназначалось для заседаний бюро райкома, за столом, традиционно покрытым красной скатертью, сидели члены партийной комиссии — строгие блюстители коммунистических идеалов и морали. Председательское место занимала первый секретарь райкома Ангелина Евгеньевна Кислюк. Она могла бы и не присутствовать на заседании, предоставив право вести его секретарю парткомиссии, но дела о моральном разложении коммунистов всегда таили в себе немало интересного, и пропустить такое шоу Кислюк позволить себе не могла.
Рыжова как подсудимого посадили в стороне от стола на отдельном стуле. На противоположной стороне партсудейского стола Рыжов заметил Тонечку Трескунову. Ее роль в этом деле стала ясна довольно быстро.
— В райком от беспартийной гражданки Трескуновой, — грудным высоким голосом объявила Кислюк, — поступило заявление о попытках начальника районного узла связи Василия Васильевича Рыжова, который, пользуясь служебным положением склонить ее к половому сожительству…
— У-у-у, — по комнате прошелся легкий гул неодобрения — аморальность обвиняемого обозначилась с бесспорной ясностью.
— Товарищ Трескунова, — предложила Кислюк Тонечке, — расскажите нам, как все было.
Тонечка встала, всхлипнула и вытерла глаза уголком косынки.
— Он пригласил меня к себе в кабинет. Там у него диван. И он, — Трескунова застеснялась, запнулась и заплакала. — И он…
— Что он? Ну…
Лицо Ангелины Кислюк, дамы лет сорока восьми, за неимением мужа тайно сожительствовавшей со своим райкомовским шофером, однако всегда принципиально разбиравшей персональные дела коммунистов и каравшей их за прегрешения, лучилось суровой доброжелательностью и откровенным женским любопытством. Щеки ее в предвкушении притока в кровь эндорфина, розовели.
— Он прижал меня к себе и стал раздевать.
— Как прижал?
Кислюк, давно пережившая годы репродуктивной деятельности, но не утратившая чувственности, пламенела от нездорового интереса к интимным подробностям случившегося.
— Так вот и прижал, — сказала Трескунова, — двумя руками.
— И стал раздевать?
Кислюк явно желала представить себе происходившее в самых малейших подробностях. Для того, чтобы вынести решение, и осудить моральную распущенность коммуниста Рыжова, надо было ясно и точно знать в чем эта распущенность проявлялась.
Рыжов оглядел внимательно членов парткомиссии. За столом, покрытым красной скатертью, сидели хмурые люди, обремененные собственными заботами и мало интересовавшиеся чужими бедами. Было видно, что мужики — а их в составе комиссии оказалось всего двое — смотрели на провинившегося исподлобья и явно осуждали его не столько за поведение — фронтовик вернулся в тыл без руки, холостой, почему не завести шашни, — сколько за то что даже такое простое дело надо делать с умом, и уметь не попадаться. А раз попался, припух, то и получи на всю катушку. Мораль надо блюсти, чтобы не возникало в обществе разговоров о непотребном облике коммуниста-руководителя.
Пять остальных членов комиссии — женщины — глядели на Рыжова суровыми прожигающими насквозь взглядами. И каждая думала, что окажись она на месте этой глупой свистушки Трескуновой, то ни за что и никогда не продала мужика, который ее попытался раздеть, в стремлении прижаться пупком к пупку. А раз он, дурак, и выбрал не ту, которую надо, поделом ему будет и строгий выговор.
— Что вы можете сказать в свое оправдание, товарищ Рыжов?
Кислюк лучилась светом высокой душевной чистоты и строгости.
— Хорошо, — Рыжов встал, здоровой рукой оправил гимнастерку, разгладил пустой рукав. — Перед лицом товарищей по партии я расскажу все. Как было. Да, товарищи, я виноват. Но в этом деле не все так просто как кажется. Поначалу я собирался запираться. При этом мной руководило только одно желание — защитить честь женщины. Именно Антонины Трескуновой. Но теперь я понял — она погрязла в болоте разврата, и ее надо спасать.
Рыжов понимал: в ситуации, когда ты абсолютно не виноват, только бессовестность, большая, чем у его противников; ложь, более беспардонная, нежели, та, которую только что выплеснули на него, могут стать его надежным щитом и оружием.
— Мы слушаем вас, — сказала Кислюк и ехидно скривила губы: мол, пой, пташечка, пой. Мы тебе все равно крылышки-то подрежем.
— Прошу меня простить, товарищи члены партийной комиссии. Я буду говорить прямо, как солдат. Я уже потерял руку в борьбе с заклятыми врагами нашей страны, но чести своей терять не намерен. Тем более, когда речь идет о крайне распущенной, падшей женщине. Я буду говорить, а вы смотрите на Антонину Трескунову. И увидите, что правда, которую я скажу, окажется ей не по душе…
— Говорите, говорите коммунист Рыжов. — Кислюк выдержала многозначительную паузу. — Пока коммунист. А мы уж сами разберемся, что к чему.
Секретарь райкома твердо держала штурвал разбирательства в своих руках.
«Милая фрау Эрика Бастиан, — подумал Рыжов, — жена побежденного врага, подруга победителя, выручай, как тогда, когда ты изобрела замечательную историю с кастрюлей!»
Рыжов скрыл улыбку. Он представил, как отвиснут челюсти, и округляться глаза у членов святой партийной инквизиции.
Рыжов сделал глубокий вдох, стараясь набрать побольше воздуха.
— Все началось так. Я пришел на работу поздним вечером. Надо было закончить квартальный отчет. Вошел в свой кабинет. Зажег настольную лампу. И вдруг дверь открылась. Я поднял глаза и увидел телеграфистку Трескунову. Она вошла, плотно закрыла за собой дверь и повернула ключ в замке…
Теперь в комнате заседаний воцарилась полнейшая тишина. Члены парткомиссии застыли, полные напряженного внимания. Все чувствовали — история, которую начал рассказывать Рыжов, пощекочет им нервы, даст пищу для суровых выводов, а это как никогда укрепит авторитет парткомиссии, которая строго борется за мораль коммунистов.