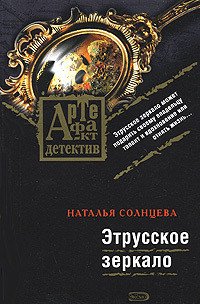Из России за смертью - Рогожин Михаил (мир книг TXT) 📗
А если разобраться, то женщины-то и не было. Просто телки. Лучше, хуже — не важно. Грудями отличались и жопой. А встретил Ану и понял: женщина — это не баба. Ее изучать нужно.
— Глазами?
— И ушами.
— Тогда лучше в кино иди. Там и расскажут, и покажут. А за такого, как ты, еще и трахнут. Пойми, мы их придумываем. В кино для других, а нормальный мужик каждый раз для себя. Какой желаешь ее, такой и увидишь. В этом вся загадка. Сами себя дурачим. А потом с них же и спрашиваем. А они совсем ни при чем. Кто ж виноват, что ты ее такой придумал? Положим, приходил ты, разевал варежку и слушал ее речи. А другой приходил и трахал. Каждому свое. Встречая новую женщину, понимай, что рано или поздно расстанешься с ней. И бери от нее все, потому что потом станешь ей абсолютно безразличен. Тебя будет грызть обида, а она почистит перья и к новым песням. Это мы каждый раз умираем, а они каждый раз возрождаются. После такого расклада кто кого должен жалеть?
Найденов налил себе джина. Молча, не обращая внимания на подполковника, выпил и тусклым голосом сказал:
— Да, я ее придумал. И лучше уже ничего не придумаю.
— Правильно, — согласился Рубцов, — однажды такое следует пережить. Ерунда. Пойдем в джунгли, разомнемся. Потом все спишется и смоется вместе с грязью. Лично я спать. Никогда так много о бабах не говорил. Слаб в теории.
Подполковник понимающе, а может, скорее ободряюще похлопал Найденова по руке и завалился на койку.
Завтра Найденов увидит Ану. Зачем? Неужели этому сну есть продолжение? Неужели Найденов хуже, чем она о нем думает? Неужели она надеется на продолжение? Какое? У них не может быть продолжения. Почему? Потому что он советский офицер, защитник родины и... дерьмо.
ПРОЦЕНКО
Григорий Никитич Проценко брился с особой тщательностью и удовольствием. За окном, теряя утреннюю свежесть, начинался его любимый день — четверг. Политучеба и хор. Весело урча, электробритва «Харьков» плавно скользила по щекам, не сумевшим даже в Африке прихватить настоящий загар.
Отчего казалось, что лицо Проценко состоит из впадин, более темные края которых составляли нос, брови и тонкий зигзаг губ. Но Григория Никитича его лицо вполне устраивало. Особенно в четверг. Он надевал выстиранную и с вечера выглаженную форму, критически разглядывая каждую складку на брюках. Даже носки и (о чем никому не было известно, но было атрибутом его аккуратности) трусы, и те были выстираны и отутюжены. Тело, ощущающее чистоту белья, подрагивало возбуждающей дрожью. Впереди был его день.
Политзанятия в этот день Проценко проводил на подъеме, в хорошем лекторском стиле. Привычно создавая из отшлифованных словесных блоков воинственную и складную оду всеобщей победе социализма. В остальные же дни Григорий Никитич провоцировал слушателей-офицеров. Он начинал от их имени высказывать кой-какие крамольные мысли и тут же, азартно причмокнув, принимался энергично расправляться с безыдейным собеседником. Он выбирал самого сонного офицера и, глядя в упор в его красные с перепоя глаза, вел непримиримую полемику, выкрикивая цитаты из классиков марксизма-ленинизма и за себя, и за него. Бедолага офицер, зацикленный только на том, чтобы не блевануть от сжимающей горло судороги, невольно вставал и с виноватым видом мотал головой в такт речи полковника.
Но по четвергам Григорий Никитич не боролся за чистоту идейных помыслов подчиненных. В четверг он чувствовал себя художником, музыкантом, мыслителем. Иногда даже позволял себе шутить. В ответ аудитория подобострастно смеялась. И Проценко не одергивал ее. Ибо главное, во имя чего он берег свой возвышенный душевный настрой — хор, было еще впереди.
Больше всего на свете полковник Проценко любил, когда пели хором.
И непременно женщины. Он самозабвенно закрывал глаза и, склонив голову, плавно и непрерывно размахивал руками, пытаясь дотянуть нестройное глухое звучание усталых хористок до той хрустальной звуковой доминанты, которая далеким высоким светом пульсировала в его сознании.
Полковник вновь ощущал себя мальчишкой, еле поспевающим за толпой женщин. Они шли с торчащими вверх граблями и косами по пыльной проселочной дороге и пели. Казалось, поля оживали от их громкого могучего пения, и голопузый Проценко больше не казался себе маленьким и одиноким среди бескрайнего, раскинувшегося на все стороны хлебного мира. Он желал, чтобы женщины никогда не прекращали своего пения, и готов был сколько угодно вприпрыжку поспевать за ними по теплой, мягкой, пыльной дороге.
Когда Григорий Никитич вырос, то с ходу направился из деревни в музыкальное училище. Не приняли. Сказали, что нет никаких музыкальных способностей. Он не расстроился, ибо выяснил, что в училище женского хора нет, его заменял хор мальчиков. Но разве мальчики могут тягаться с женщинами? И Проценко поступил в общевойсковое училище. Там пели только строем по пути в столовую и на вечерней прогулке. Но и тогда сержанты приказывали ему заткнуться и молча тянуть ногу.
А в груди его нескончаемо звучал хор женщин. Поэтому куда бы в дальнейшем судьба ни забрасывала замполита Проценко, он всюду начинал свою службу с организации при клубе женского хора. По-настоящему реализовать свою мечту ему удалось лишь в Луанде. Поначалу офицерские жены роптали, но Григорий Никитич отправил одного капитана обратно в Союз, мотивируя решение низким уровнем политико-воспитательной работы в капитанской семье, — и женщины запели с невообразимым усердием.
Все свободное время Проценко проводил в клубе. Бегал по сцене, расставлял скамейки. Спускался в длинный, с низким потолком зал, садился в скрипучие ободранные кресла, исписанные матом и годами службы, и страстно ждал, когда его хор заполнит пространство сцены и воздух наполнится женским естеством. Все они: грудастые и безгрудые, вызывающие и скромные, на каблуках и в кроссовках — объединялись в один женский организм, подвластный лишь ему, ловящий на лету каждое его движение, отдающийся его воле.
Григорию Никитичу мало было одной женщины. Вернее, одна ему была ни к чему. Не возбуждала. Не вдохновляла. А потому раздражала. Была у него жена. Мучилась с ним, сама мучила его и скоро умерла от рака. И уже никто не мог заменить ему хор, бунтовавший в груди. Такое мучительное, томительное и сладостное желание возникало в его теле, когда женщины, перешептываясь, шурша юбками и цокая каблуками, неуклюже взбирались на скамейки. Он стоял перед ними и молча ждал. Наконец, подобно морю, волнами возгласов и переругиваний хор затихал, и глаза хористок устремлялись на него. Лучи солнца, да что там солнца — радиации, не смогли бы пронзить тайники его души так, как пронзали эти безмолвные, покорные, ненавидящие взоры офицерских жен.
Полковник поднимал руку, и все в нем поднималось. Кровь с невероятным напором стремилась от ног к голове, от чего лицо краснело и глаза слегка выпучивались. Бедра обручами обхватывала судорога, и свинцовая тяжесть ползла к паху. Подобно птице, уже подскочившей, но еще не взлетевшей, Проценко делал взмах руками и замирал. Каждый раз, стоя перед хором с закрытыми глазами, он мучительно ждал — начнут или нет. И женщины начинали. Полковник отрывался от дощатого помоста и взлетал, плавно и мощно дирижируя. Теперь он мчался к своей единственной и неотвратимой вершине. Поднимаясь на цыпочки, вытягиваясь и отчаянно дергая руками, Григорий Никитич напряженно ждал момента, когда в нестройном, но монолитном звучании хора произойдет сбой и одинокий женский голос понесется к верхнему «до», но... не удержавшись на высоте, тотчас же сорвется, всхлипнет и коряво полетит вниз. Тут-то страсть, распирающая полковника, взрывалась и потоком текла по бедру, приклеивая трусы к дрожащему телу. Несколько секунд постояв в неподвижности и наслаждаясь своей слитностью со всем женским хором, Проценко опускал руки. Хор по инерции еще тянул свою партию, но, наткнувшись на апатию руководителя, разноголосо затухал. Полковник, глядя себе под ноги, давал команду «Разойдись» и усталой походкой гения покидал сцену...