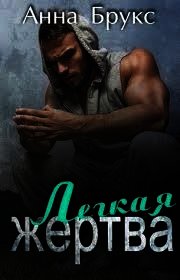Первая жертва - Элтон Бен (бесплатные онлайн книги читаем полные .txt) 📗
Сначала он подумал о побеге.
Люди и раньше сбегали из «Уормвуд скрабз», и Кингсли полагал, что разум и зрение у него поострее, чем у большинства других. Но для побега ему нужны были сила и ловкость. Сейчас он лежал избитый до полусмерти и был лишен и того и другого. Восстановить силы ему вряд ли удастся, потому что, как только его выпустят из медпункта, он тут же попадет в руки своих смертельных врагов. Дженкинс четко дал понять, что его снова будут избивать, и не раз.
Поскольку побег был невозможен, Кингсли попытался придумать что-нибудь другое.
Ведь не единственный же он здесь изгой. Разум подсказывал, что не к нему одному здесь относятся предвзято. Нет, вряд ли здесь есть еще кто-то, кто отказался служить в армии по идейным соображениям. Случай Кингсли был особый: других отказников судил военный трибунал, и если их и отправляли в тюрьму, то попадали они в куда менее жестокие учреждения, чем «Уормвуд скрабз». Только к Кингсли отнеслись как к обычному преступнику.
Но можно ли здесь найти союзников? Сможет ли он отыскать других гонимых и заключить пакт о ненападении, по условиям которого они будут при необходимости приходить друг другу на помощь? Даже несмотря на сильную боль, Кингсли вновь стал размышлять о том, что именно такого рода пакт разрушил Европу словно карточный домик и породил ужас, в котором они все оказались. Разыгралось воображение, и он представил, как заключенные тюрьмы устраивают драку во имя коллективной безопасности. Стулья переломаны, все швыряются пирогами, и вдруг двери распахиваются, и комната наполняется гротескно ухмыляющимися американскими констеблями, которые колотят друг друга смешными, бестолковыми дубинками. Как и многие, Кингсли любил ходить в недавно появившиеся кинотеатры, и в более счастливые дни он смеялся вместе со своим маленьким сыном и остальными зрителями над дурацкими «Кистоунскими полицейскими» Мака Сеннета. Воспоминания ненадолго отвлекли его от раздумий о его нынешнем плачевном положении. Когда ясность мысли снова вернулась к нему, он решил, что даже если в тюрьме и есть подобные ему заключенные, изгои, живущие в страхе, какой от них может быть прок? Они так же беззащитны, и собрать их в группу не удастся. К тому же ему претила даже мысль о том, что, чтобы заручиться поддержкой, ему придется общаться с детоубийцами, насильниками и прочими отбросами общества.
Кингсли нужно было присоединиться к группе. Сложившейся группе заключенных, способных действовать коллективно, исходя из взаимной заинтересованности друг в друге. Но кого выбрать? Он уже выяснил, что социалисты не хотят иметь ничего общего с бывшим полицейским. С кем он мог бы попытать удачу?
Вернулся санитар.
— Я слышал твой смех, приятель. Это хороший признак.
Снова этот акцент. Акцент чужака, парии. Ирландец в Англии прекрасно знает, что такое быть объектом презрения.
— Я вспомнил «Кистоунских полицейских», — прошептал Кингсли.
— А, да. Ужасно смешно, это да. Хотя, если по правде, вряд ли даже такой нелепый полицейский может кого-то порадовать.
Санитар снова поднес Кингсли воды, на этот раз — под воздействием морфия — менее твердой рукой.
— Извините, — сказал Кингсли, напившись вдоволь, — но не знаете ли вы, случайно, фениев в этой тюрьме?
Санитар поставил чашку. Его мозги работали с трудом, но слово «фений» было не из тех, на которое он мог не обратить внимания.
— Знаю ли я о «Братстве»?
— Да.
— А пошему вы меня об этом спрашиваете?
— Потому что они, как и я, попали в тюрьму не из-за жадности, а из принципа.
— А вы, знашит, ирландский националист?
— Я не говорю, что мы попали сюда из-за одинаковогопринципа, но все равно это принцип. — Пытаясь не обращать внимания на боль в разбитом и ноющем теле, Кингсли попытался говорить четко. — Я хочу попросить у них защиты.
— А с шего это ирландское республиканское братство решит вдруг тебе помошь, мой друг?
— Я же сказал. Я тоже идеалист.
— Они крутые ребята, инспектор, с ними не пошутишь.
Идея была обречена на провал, и Кингсли знал это. Если даже английские профсоюзные активисты презирали бывшего полицейского, то как же станут презирать его ирландские националисты? Они точно не захотят помочь ему из жалости. Сможет ли он убедить их, что ему есть что им предложить? Имена? Секретные сведения? Хоть недолго побыв под их защитой, он сумел бы восстановиться и найти какие-то возможности для побега. А если они обратятся против него, какое это имеет значение? Он и так приговорен, но ирландское республиканское братство — это, по крайней мере, патриоты, своего рода солдаты. Заключенные совести, а не жадности. Лучше принять смерть от них, чем быть забитым до смерти сутенерами и ворами. Кингсли был уверен, что ирландцы хотя бы избавятся от него аккуратно.
— Я надеюсь, вы знаете, што делаете, — добавил санитар.
— Вообще-то не совсем, — ответил Кингсли. — Но в моем нынешнем положении это не так уж и важно.
12
Ипрский выступ, начало наступления, 31 июля 1917 года: Третья битва при Ипре
Аберкромби чувствовал, как в горле у него что-то набухает, и ничего не мог с этим поделать. Он снова и снова непроизвольно сглатывал, словно пытаясь протолкнуть какой-то огромный предмет вроде шара для крикета, который намертво застрял у него внутри. Накануне вечером, вскоре после наступления сумерек, он подошел со своей ротой к линии фронта и провел ночь в передовом окопе.
Часы темноты были ужасны и восхитительны одновременно. Аберкромби вместе со всеми остальными словно завороженный наблюдал, как темное небо взрывается красками, а немецкий горизонт озаряется залпами трех тысяч британских орудий, без остановки паливших по врагу. Всю ночь солдаты Королевской полевой артиллерии, трудившиеся прямо за окопом отряда Аберкромби, выкладывались до предела; на артобстрел возлагались большие надежды: он должен был уничтожить немецкую колючую проволоку и дать англичанам возможность продвинуться вперед.
Всех солдат завораживала пугающая красота ночных артобстрелов; производители китайских фейерверков не могли даже представить себе такого зрелища, какое представляли собой небеса, разверстые над Ипром вечером 30 июля 1917 года. Грохот бил по барабанным перепонкам, а вспышки слепили глаза. Солдаты сидели на корточках, оглушенные и измотанные; перепады давления от громыхавших вокруг взрывов притупляли чувства и одновременно расшатывали нервы. Всю ночь напролет отряд Аберкромби, а также девять дивизионов британской пехоты сидели под адским небом. Солдаты сидели в грязи, зажатые между громыхавшими английскими орудиями и оскалившимися зубами немецкой колючей проволоки, с которой им предстояло встретиться на рассвете. Ни у кого во Фландрии не могло быть сомнений, что совсем скоро начнется очередное полномасштабное наступление британцев.
Где-то за час до рассвета грохот орудий начал стихать, и желающие поговорить получили наконец такую возможность.
— Стоило бы поставить часовых, чтобы следить за подводными лодками, верно, сэр? — пошутил старшина роты Аберкромби. Это была старая шутка на болотах Западного фронта, но в это утро она была особенно кстати, потому что всю ночь дождь лил так, словно природа, оскорбленная побоищем, пыталась погасить пыл британских орудий.
Аберкромби не ответил. В любое другое утро своей военной карьеры он нашел бы, что сказать. Он бы улыбнулся сержанту и сказал что-нибудь остроумное, чтобы успокоить своих людей, показать им, что их капитан спокоен и все под контролем. Но в это утро Аберкромби не мог сказать ничего; шар для крикета, застрявший у него в горле, разросся до размеров футбольного мяча. Ему было трудно не только говорить, но даже дышать. Остроумие, его самое надежное оружие и надежный щит, в момент тяжелейшего испытания его покинуло.
Аберкромби хотел быть сильным, но сила утекала из него, уходила в полные воды ботинки и грязь под ногами. Ночью он сумел ненадолго собраться и поддержать своих подчиненных. Стэмфорд прошел по окопу, сопровождая артиллерийских наблюдателей. На лице молодого человека был написан ужас, ведь для него это была первая артиллерийская атака. Аберкромби протянул ему руку, и когда Стэмфорд коснулся ее, Аберкромби нежно сжал его ладонь, и впервые после той ночи в Лондоне их глаза встретились. Стэмфорд улыбнулся и, казалось, немного успокоился.