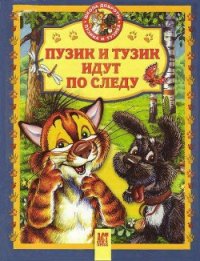Антология исторического детектива-18. Компиляция. Книги 1-10 (СИ) - Хорватова Елена Викторовна
Митенька, я уезжаю в Швейцарию, в горы, там хорошие врачи и хорошие санатории для больных чахоткой. Может быть, мне еще смогут помочь. Умирать ужасно не хочется. Прощай, моя любовь. Увожу твой образ в своем сердце. Если мне станет лучше, я к тебе вернусь. А если не вернусь, знай – я жду встречи с тобой на небесах. Буду молиться, чтобы Господь даровал мне спасение.
Целую тебя несчетное число раз.
Твоя Ася.
P.S. Прости, мой милый, если что не так написала. Мура Веневская говорила, что мы, купчихи, всегда пошло выражаем свои мысли. Но я пишу тебе от сердца – ты, Митенька, одна моя любовь на всю жизнь, сколько бы мне ее ни осталось.
А.»
– Адреса твоя госпожа не оставила? – спросил лакея Колычев, сглотнув комок, вставший в горле.
– Никак нет-с. Но говорили, что вы сегодня непременно придете, и просили вручать вам письмо и презент к Рождеству.
И лакей протянул Дмитрию сверток в знакомой оберточной бумаге с блестящими снежинками и с красной, как кровь, «вайнахтештерн», всунутой под ленту. Видимо, упаковывала его все та же барышня из ювелирного магазина...
В свертке был золотой портсигар с бриллиантовой монограммой «ДК». Открыв его, Дмитрий прочитал внутренюю гравировку: «Кого люблю, тому дарю».
«Мура, чертова кукла, была права по поводу купчих, – машинально отметил он, хотя в его голове лихорадочно прыгали совсем другие мысли. – Выражаются пошло... Поезда в Швейцарию уходят с Александровского вокзала. Сколько отсюда езды до Тверской заставы? Может быть, я успею Асеньку догнать. Господи, только бы успеть!»
Выбежав на улицу, он вскочил в экипаж извозчика, привезшего его с Кузнецкого, и закричал:
– Гони к Тверской заставе, к вокзалу! Рубль дам на водку. Только гони, братец, гони!
Павел Саксонов-Лепше-фон-Штайн
Можайский — 1: начало
Сериал на бумаге
124 пожара (почти 25 %) произошли от невыясненных причин…
Показавшись в нижнем этаже левого надворного 4-х этажного каменного флигеля и найдя обильную пищу в нагромождении сухих деревянных ящиков… огонь почти мгновенно охватил большую часть здания, все этажи которого, по обеим сторонам лестницы, слились в один громадный костер. Взвившееся страшное зарево осветило своим зловещим светом окрестность на далекое расстояние. Пламя ревело и бушевало, а из окон вырывались огненные языки свыше 2-х сажен длиною…
По прибытии на место ближайших двух частей команды, оказалось, что пожар возник в кладовой подвального этажа, и что удушливый дым, распространившийся по лестнице и через пробитые в полах для подъемной машины отверстия, отрезал путь к отступлению людям, находившимся в 3-м и 4-м этажах…
Обстановка данного пожара поистине могла быть названа ужасной: нестерпимый жар, под действием которого дымились все соседние постройки, удушал и обжигал работавших людей, испепеляя их войлочные щиты и платье, когда — в то же время — жестокая снежная метель, разносившая горячие угли и пылавшие головни на далекое пространство, в соединении с морозом, превышавшим 17° по Реомюру, замораживали пожарные трубы и заливные рукава…
Всеподданнейший отчет СПб Градоначальства.
1
В гостиной «барских» апартаментов дома Ямщиковой, в креслах у столика с двумя стаканами, бутылкой водки, пепельницей и нарезанным в блюдце лимоном, сидели двое: известный всему Петербургу газетный репортер Никита Сушкин и пристав участка Васильевской части, подполковник князь Юрий Михайлович Можайский. Рядом на полу в беспорядке валялись номера ведомостей — Градоначальства и Санкт-Петербургских — десятки номеров, растрепанных, неаккуратных и создававших впечатление, что их не только что швырнули на пол, а день за днем кидали как придется. В сущности, так оно и было.
Сверкая глазами навыкате, всем телом подавшись вперед и словно приготовившись бодаться крупной, массивной, наголо стриженой головой, Никита Аристархович тыкал сигарой в пять или в шесть зажатых в пальцах левой руки исписанных листов бумаги и говорил с возбуждением, с экспрессией — такими же точно, какими отличались его собственные репортажи.
Напротив, Можайский — в расстегнутом мундире, нога на ногу, вольготно откинувшись на спинку кресла — спокойно курил папиросу и слушал репортера с улыбкой в глазах. Впрочем, улыбка в его глазах, как было хорошо известно каждому, кто более или менее близко его знал, не значила ровно ничего: глаза Можайского улыбались всегда — с тех пор, как разбитая бровь, слегка опущенные уголками веки и косой шрам меж бровями навечно придали его лицу выражение хмурости.
— А ровно через неделю — бац! — хоронят уже его! Как тебе это нравится? Через неделю! Его самого! Укладывают в гроб и закапывают в землю. Разве это не странно?
— Что же странного в том, что сердце не выдержало горя?
— Не выдержало сердце! У здоровенного, прости, Господи, борова, каким был этот купчина?
— Человеческий облик…
— Хватит смеяться! — нужно заметить, Можайский и впрямь усмехнулся, выпустив папиросный дым и глядя на Сушкина всё с той же застывшей улыбкой в глазах. — Десять… ты слышишь? — десять случаев за четыре месяца! Один к одному! А за два без малого года — добрые… тьфу ты! — кошмарные, жуткие, чудовищные…
— Ах-ха…
— … тридцать один!
— Дай-ка сюда… — Можайский протянул руку, а Сушкин передал ему листы. — Вот, пожалуйста: хорошо помню пожар у Старовойтова; моего участка погорелец. Ты пишешь: сгорели сам хозяин дома и сын, а через… что, правда через неделю?.. гм… скончалась супруга. Наследник — пасынок, — не выдержав хоть маломальских приличий, вскоре выехал заграницу.
— Именно!
— Ничего подобного.
— Да как же нет, когда…
— Угомонись. — Можайский потушил в пепельнице папиросу, помусолил исписанные листы и, пару раз опять усмехнувшись, вернул их репортеру. — Во-первых, ни за какую границу пасынок не выезжал. А во-вторых, и пасынка никакого не было: откуда вообще ваша братия вытащила его на свет, одному лишь Богу известно… ну да красное словцо и заметку краше делает, так ведь?
Сушкин сунул сигару в рот и возмущенно затянулся.
— И, наконец, в-третьих. Заявивший права наследования двоюродный брат Старовойтова распорядился полученным имуществом по-христиански: передал вырученный за него капитал в Общество вспомоществования вдовам и сиротам нижних флотских чинов. Да ты ведь и сам должен об этом знать: газеты несколько дней восхваляли Архипкина за…
— Архипкина? Постой: того Архипкина, который…
— Того, того. Сто с лишком тысяч рублей серебром. Эти деньги — наследство Старовойтова.
Сушкин задымил сигарой, а Можайский продолжил:
— Другой случай, опять же в моем участке. Вдова надворного советника Крутицына. Погибли: она сама, ее старшая дочь, тоже вдовствующая, и внучка — двух лет и четырех месяцев от роду. Вскоре скончалась и младшая дочь…
— Через неделю!
— Да. Любопытное совпадение. Но всё остальное неверно. Не было никакого супруга, разбогатевшего на таком наследстве и вскоре женившегося на хорошенькой модистке. Тебе вообще не кажется, что модистка — немного чересчур и… слишком уж мелодрама?
— Ни модистки, ни вдовца, ни наследства?
— Почти.
— Почти! — Сушкин вновь засверкал глазами и выставил вперед стриженую голову. — А что — почти?
— А то… — Можайский на мгновение замолчал, насмешливо прикусив пухлую нижнюю губу и прищурившись. — А то, что столь внезапно овдовевший супруг младшей дочери Крутицыной отказался от наследства — не очень, впрочем, значительного — в пользу частных убежищ для рожениц и выехал в Москву: с понижением в окладе, но мотивируясь тем, что жить в местах кончины его любимой жены не в состоянии. Очень, кстати, — помню, как сегодня было — искренний и приятный молодой человек. Автору заметки о модистке должно быть стыдно.