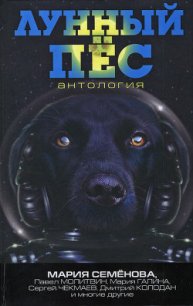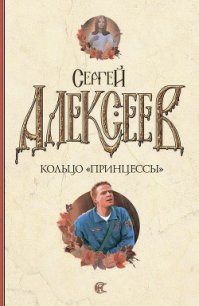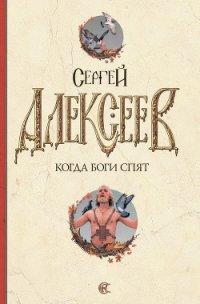Аз Бога Ведаю! - Алексеев Сергей Трофимович (читать хорошую книгу .TXT) 📗
И ныне уже подал знак Приобщенному Шаду низвергнуть Иосифа с престола... А не возжелал ли этот рохданит сам утвердиться на царство?
Сомнениями одержимый и страхом божьей кары, он бросил все свои сакральные дела и решился-таки вновь поехать в Саркел. Ожидая воли богоподобного, гнили в погребах незахороненные тела белых хазар, не могли соединиться в браке женихи и невесты, а новорожденные оставались безымянными. Всякий раз, наезжая в сакральную столицу Хазарии, свита кагана везла на верблюдах золото – жертвенную десятину от всякой прибыли государства, которая лично возносилась богоподобным под звездный купол и оставлялась у двери. Караван из тринадцати животных едва дотаскивал тяжелые тюки до стен внутренней крепости, после чего несколько кундур-каганов переносили золото в башню. А выше, под самый купол, поднимал его уже сам каган – это была единственная земная работа его, благородный труд возложения жертвы. Чем чаще каган Хазарии восходил под звезду по надобности государственной или по своему желанию, тем более приходилось жертвовать, ибо десятина никак не могла быть меньше, чем предыдущая. Без даров взойти под купол богоподобный мог лишь единственный раз, когда после венчания на трон получал из рук рохданита Венец Великих Таинств. Поэтому, отправляясь в Саркел, каган велел навьючить жертвенным золотом верблюдов, однако по пути ко всем прочим грешным мыслям пришла еще одна: он усомнился в божественности ритуала жертвоприношения. От иудейских мудрецов он знал, что золотой телец – символ управления миром – вкушается самим господом и ангелами его. А как и где, не следовало знать даже богоподобному, поскольку это есть Таинство и промыслы божьи. Но, торгуя в хлебной лавке, и теперь, взойдя на сакральный престол, он видел, что все живое, от черного хазарина до подзвездных владык, питается хлебом насущным, а золото пробуют на зуб лишь для того, чтобы вкусить его качество.
Как обычно, каган скакал на арабском коне в полном одиночестве, хотя со всех сторон был окружен незримыми всадниками, из-под копыт лошадей которых далеко на горизонте взвивались пыльные следы. Раскаленная степь бросала в лицо знойный воздух, пот выедал глаза, а разум все настойчивее терзали искусительные размышления. Если бы дары богу Яхве не выносились из-под купола, а накапливались там, то за все существование Хазарии под куполом бы уже не оставалось места. Убогое жилище рохданита под звездой не позволяло незаметно спрятать даже одной привозимой десятины. Стало быть, жертвенное золото выносится из башни и отправляется неведомо куда. Всей Хазарии было известно, на что расходуется десятинная жертва, приносимая в синагогу, но каким образом и на что использовались Великие Дары? Не этот ли опальный рохданит пожирает золотого тельца?
Покуда мчался он по горячей степи, и мысли были жгучими, а жажда справедливости – огненной, да на подъезде к Саркелу подул север и остудил кагана. Неведомо откуда на охраняемой дороге появилась ватага славянских разбойников-варяжей и, верно, думая, что перед ними караван купеческий, ударила из глубокой балки и отсекла верблюжий обоз от свиты и стражи. Ничего этого богоподобный не видел, занятый собственными раздумьями, и узнал о нападении лишь от каган-бека, настигшего владыку Хазарии уж под самыми стенами сакральной столицы.
Из тринадцати навьюченных золотом верблюдов варяги отбили девять и угнали в степь. Стража немедля устремилась в погоню, но тем часом таившиеся поблизости разбойники набросились на остатки каравана, бывшего по сути без охраны, и безнаказанно увели остальных четверых верблюдов с дарами да похитили четырех жен из гарема кагана, который путешествовал за господином на арбах под балдахинами. Уйти от конной погони с караваном из девяти верблюдов по степи невозможно, и потому стражники к исходу дня настигли варягов, которые бросили захваченное имущество вместе с животными, даже не разрезав вьюков, и умчались налегке в сумеречную степь. Довольные победой стражники возвращались на дорогу не спеша, и когда пришли к оставленному обозу, то другой части ватажников уж и след простыл, а ночь надежно упрятала их от скорого возмездия.
Неслыханная дерзость славян лишь добавила скорби к поруганной гордыне. Богоподобный менее жалел золото, чем своих жен, хотя их было в гареме бессчетно: одни достались от отца, других он сам набирал через каган-бека. Кагана возмутила одна лишь мысль, что варяги сейчас тешатся с его женами, а прикасаться к ним не мог никто из смертных! В порыве гнева богоподобный вырвал у Приобщенного Шада светоч из руки и ударил его огнем в лицо. Каган-бек пал ниц и так замер.
– Стражу казнить немедля! – придя в себя, повелел каган. – Тела их бросить шакалам!.. А головы разбойных варягов к восходу солнца должны быть у моих ног. Но чтобы ты не схитрил, похищенных моих жен привезешь вместе с головами. Живых или мертвых – мне все равно.
– Повинуюсь! – вскричал обоженными устами каган-бек.
Богоподобный намеревался этой же ночью вступить в Саркел и войти в звездную башню, однако непредвиденные обстоятельства заставили его дать знак остановки на ночлег. В тот же миг вырос походный шатер со всем внутренним убранством и рядом – шатер для гарема. Старые жены, исполнявшие обязанности служанок, кинулись к нему, чтобы снять дорожные одежды, смыть пот и обрядить в одеяния для вечерней молитвы, но богоподобный лишь шевельнул рукой, и расторопные старухи, ослепленные черными покрывалами, вмиг исчезли. Он же повалился на полушки ложа и не успел перевести дух, как услышал звуки близкой казни. Пара коней взбивала землю копытами, после чего раздавался короткий крик и треск раздираемой плоти: стражников по кочевому обычаю рвали конями. Приобщенный Шад умышленно казнил провинившихся близ шатра кагана, чтобы тот испытал удовлетворение. Послушав предсмертные вопли, он сам снял мягкие сапоги наездника и встал перед походным алтарем. Как всякий богоносный, он молился не по канонам псалтири, а молитвой личной, и порой увлекаясь ею, становился страстным и одержимым, так что забывал о времени. Тут же он долго не мог сосредоточиться и тупо глядел на ковчег: мешали крики обреченных и смачно-приглушенный хруст расчленяемых тел. Он постоял коленопреклонно, подождав завершения казни, и когда вновь воздел глаза на ковчег со скрижалями завета, то теперь крикнул сам, словно его сейчас, набросив на каждую ногу волосяной аркан, разрывали надвое.
Он позрел разумом знак божий! А знаком этим было внезапное нападение варяжской ватаги. Только в сей миг он осознал это, ибо послать разбойников на его дорогу мог лишь господь! И он же так надежно укрыл их в степи...
За греховные мысли настигло божье наказание!
– Всевышний Яхве! Вседержитель! Прости раба твоего! – раздирая на себе дорожные одежды, истово взмолился он. – Каюсь! Покусился я изведать промыслы твои! Не позрел предупреждения твоего, когда послал мне слугу своего, опального рохданита! А я разгневался на него и заподозрил в дурных замыслах – мой престол отнять. Прости, господи!
Резкий порыв ночного ветра вздул шатер, и, опадая, он всколыхнул воздух, оглушил хлопком парчовых стен и одним дыханием потушил семисвечник. Господь гневался – не прощал! Но богоподобный не отчаялся, поскольку был посвящен в одно из Таинств – Таинство молитв и магию священных действ. Он вспомнил первосвященников Аарона и, дав знак каган-беку, вызвал его и велел немедленно привести в шатер козла. Покуда Приобщенный Шад исполнял волю владыки, богоподобный сменил одежды на одеяния, сам возжег семисвечник и, возложив руки на голову приведенного к алтарю козла, стал каяться в грехах, как некогда сам Аарон в судный день. Каган молился со слезами, страстно, и по тому, как задрожала под ладонями голова животного, ощутил, что всевышний сменил гнев на милость.
Исполнив весь ритуал покаяния, он совершил омовение и только сейчас заметил, что посветлели стенки шатра и на востоке встает солнце. Истолковав это как доброе знамение, каган еще раз возблагодарил бога и приготовился лечь на походное ложе, но в тот час к нему вошел каган-бек. Очистившись огнем светоча, пылающего у входа, он склонился перед богоносным. Лицо Приобщенного Шада взялось волдырями после ожога, полуопаленная борода торчала в одну сторону, однако при этом он был доволен и не мог скрыть этого.