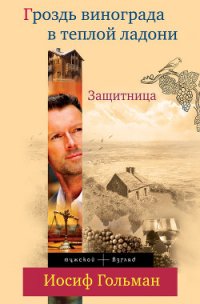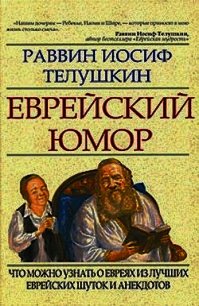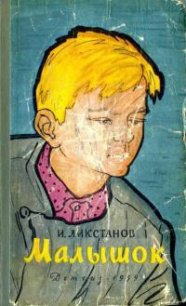Не стреляйте в рекламиста - Гольман Иосиф Абрамович (е книги TXT) 📗
— За зубы Заячьи. Я тогда прямо на суде сказал, что он у меня сядет. И подловил через полгода.
— На чем?
— Неинтересно. Интересно то, что эта сволочь по полсроку вышла. Так что я обязан контролировать условно-досрочников. По должности.
— Все равно, Володь, так далеко зайти можно. Ты за справедливость, а кто-то может ее по-другому понимать. Все равно закон нужен.
— Скучный ты, Ефим, — вздохнул опер. — Ладно, пойдем с Зайцем пообщаемся.
Они вошли в прикрытую, незапертую дверь, застав на кухне трогательную картину. Заяц сидел на табуретке, прижав к губе мокрое полотенце (Ефим отметил, что губа даже не разбита: удар Кунгуренко рассчитал точно). А девушка обняла его, прижавшись губами к нерасчесанным зайцевым волосам.
— Заяц, поговорим? — предложил опер.
— А у меня есть выбор? — огрызнулся тот.
— Конечно. Ты же свободный гражданин. Можешь написать на меня жалобу. Или рассказать товарищу журналисту историю своей паскудной жизни.
— Зачем вы так, Владимир Степанович? — заступилась за любимого девушка.
— Молчи, Ксюшка, — неожиданно беззлобно оборвал ее Кунгуренко. — Пусть твой ублюдок сам вещает.
— А что говорить? Сижу дома, никого не трогаю. Вы через день заглядываете.
— Правильно, сука. Не могу чаще. Дел много. А то б каждый день заходил. Так мне твоя рожа интересна. Расскажи журналисту, откуда деньги на жизнь черпаешь?
— Я ничего незаконного не делаю.
— Опять верно. Он, Ефим, свою Ксюшку под любого подкладывает, у кого 25 рублей есть. Так, Заяц?
Заяц молчал.
— Я сама! — вступилась девчонка. — Он меня никогда не заставляет!
— Не дергайся, Ксюш, — остановил ее опер. — За сутенерство этого урода не притянуть. Но я его все равно посажу. Нужно только выждать, пока он свою подлую натуру проявит. Слушай. — Он с неожиданным интересом развернулся к Ксюше. — А ты-то что в нем нашла? Ведь падаль! Всегда был падаль и будет падаль! Ни деловой, ни мужик, ни мент. Никто. Что ты в нем видишь, Ксюшка? Ты же не дура! И красивая такая.
— Я его люблю, — тихо ответила девушка.
Опер вздохнул и встал.
— Ладно, девочка. Ты его, конечно, еще разлюбишь. Но как бы поздно не было. И не ходи больше к «Березке». Увижу — привлеку.
Ефим бродил с Кунгуренко по подвалам, ресторанам и блатхатам еще недели две. Береславский увидел много интересного, но ничего — сверхъестественного. Кое о чем догадывался, кое-что видел раньше. Когда опер попытался попугать его предстоящим визитом к «крутым», он рассказал ему об одном из первых своих детских воспоминаний. Никому не рассказывал, а тут вот захотелось.
Главным визуальным центром у них была здоровенная «заточка»: напильник, обработанный до почти полного исчезновения насечки, и острый, как бритва. А длинный, как обычный напильник.
Вот такая заточка торчала из спины Олежки, его старшего товарища, если так можно сказать про друзей четырех и двадцати лет. Но они и в самом деле дружили.
Олежка катал пацана на раме «взрослого» велосипеда и сделал ему автомат из доски. А Ефим хвастался своим другом в дитячьей компании, и все ему по-черному завидовали.
Олежка был веселый и смешливый.
Теперь он лежал на траве, лицом вниз, а из спины у него торчала «заточка».
Когда во дворе крикнули «Убили!», все ломанулись к месту события. Ефим, понятно, среди первых. На пути был узкий прогон между двумя заборами. Вот здесь Ефим впервые понял, что взрослые умеют не только улыбаться детям. Но еще и придавливать их с такой силой, что маленький Береславский аж взвыл от боли. Его прижали к серым некрашенным штакетинам, и он буквально всем нутром ощутил свою ничтожность. Он ясно понимал, что если толпа еще раз качнется в его сторону, то курячьи косточки треснут, и его не станет. Это было так страшно, что он совершенно дико заорал. Давление сразу ослабло: детей в России убивают только по недомыслию, ненарочно. Еще через пару секунд, пробивая дорогу, как ледокол «Ленин» во льдах (только не атомной энергией, а отборным матом и кулаками: научилась за семь лет отсидки), к нему пролезла няня — баба Дуня. С ней предпочитали не связываться даже те, кто и в «зоне» мало кого боялся.
— Б…и ср…е, чуть детку не задавили! — вскричала она, прижимая к могучей груди перепуганного Ефима. Он облегченно уткнулся в родное тепло, куда частенько выплакивал свои мелкие обиды (надо признаться, мальчиком он был рефлексивным). Баба Дуня, ощутив рядом ребенка, мгновенно сменила лексику:
— Что, зайчик, напугали тебя? Зайчик мой черненький.
Но унять теперь уже своего любопытства не смогла и подалась к месту происшествия. Вот там и увидел Ефим Олежку. Хоть и ребенком был, но сразу понял: это насовсем. Слишком странной виделась торчащая из спины железина. Взрослый Ефим подумал бы «несовместимо с жизнью». Маленький таких слов не знал. Но от этого вовсе не было легче.
Рядом суетился Ефимин папа, командуя своим рабочим (Олежка тоже работал в его цехе, или, как все говорили — цеху), как ловчее положить Олежку в папину машину — «Москвич-407» (в городе их было три). Но Ефим уже все понял. Олега больше не будет никогда.
Баба Дуня весь вечер успокаивала мальца и, исчерпав запас песен и приговорок, полезла за бутылочкой красного.
— Господь простит, а Ольга не узнает, — пробормотала она. Ольга, Ефимина мама, как, впрочем, и папа, в это время пребывала на заводе. Береславский-старший командовал цехом, а она работала врачом в заводской санчасти: нормальная итээровская семья с неудачным распределением.
Нянька налила себе стакан, а пацану — полрюмочки, долив до краев чаем.
— Прости меня, грешную, — сказала она и выпила содержимое. Ефим тоже не заставил себя упрашивать. Ночь проспал хорошо, и наутро жизнь уже не казалась ему столь отвратительной.
Вспоминая этот случай, Береславский понимал, почему он ни разу в жизни так и не смог извлечь из своего сердца гневных филиппик по поводу отечественного пьянства. Жуткая жизнь и сладостный сон — притягательная сила алкоголя была прочувствована Ефимом с раннего детства.
Кунгуренко внимательно выслушал Ефима. Ничего не сказал, не выдал в ответ никаких своих страшных душевных тайн. Но понимать друг друга они стали лучше.
Он даже привел Ефима в секцию карате, что было доступно не всем. Береславский, откровенно говоря, так ничему и не научился. Лениво было бегать, прыгать. Но поучительный случай видел, причем опять при помощи неугомонного опера.
Сенсэй у них был тоненький, худенький. Как говорил Кунгуренко — струей перешибу! На спарринги аккуратно надевал щитки. Нелишняя предосторожность: тот же опер никак не мог поверить, что перед ним не враг, а спарринг-партнер. И махал своими кувалдами по-настоящему.
В тот день сенсэй щитки забыл. А Володя был не в духе и сражался особенно рьяно.
Если считать очки, то Кунгуренко не набрал ни одного. Все его удары купировались блоками сенсэя. Но уж больно мощны были удары! Один из них причинил сэнсэю нешуточную боль, и обычно терпеливый наставник на этот раз сорвался.
Щелчок кимоно хлопнул, как выстрел из «мелкашки». Кимоно щелкает — удар хороший. Маленький кулачок легонько коснулся могучей Володиной груди и… у колосса оказались глиняные ноги! Кунгуренко покачался и рухнул.
Сенсэй подошел, пощупал пульс, заглянул под веко, и, объявив, что ничего страшного не случилось, попросил оттащить тело на скамейку. Группа восхищенно молчала. Состояла она наполовину из ментов, на треть — из комсомольцев-активистов (для приема необходима была рекомендация из горкома ВЛКСМ) и на остаток — из людей, по жизни увлеченных рукопашным боем. Там, в частности, занимался Флер и многие его будущие бойцы. Удар никто не видел, тем он был и прекрасен.
Занятие продолжилось, а Ефим присел на скамейку рядом с оживающим опером. Это было, с одной стороны, гуманно, с другой — оправдывало высокими соображениями его нечеловеческую лень.
— Что это было? — спросил Кунгуренко.