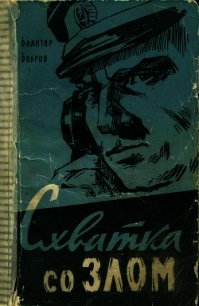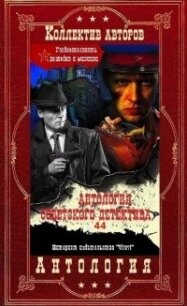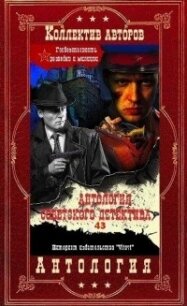Антология советского детектива-36. Компиляция. Книги 1-15 (СИ) - Ваксберг Аркадий Иосифович
Кабинет директора был просторен, чист и светел. Казалось, свет исходил не только из огромных, под стать самому кабинету окон, но и самих стен. Светлых и нарядных, прямо таки праздничных, на добрых полтора метра от пола отделанных светлой, с некоторыми оттенками янтаря, полированной плитой — ДСП. А еще — от портретов русских и советских писателей, философов, ученых, художников и композиторов, изготовленных по единому заказу, в одинаковых по размеру и окрасу рамках, и с одинаковым наклоном со стен взирающих на центр кабинета. Свет струился и от сверкающего белизной, выбеленного известью, высокого потолка, украшенного тремя хрустальными люстрами.
Значительную, но не большую часть директорских апартаментов занимали двухтумбовый, с толстой до пяти сантиметров, темной полированной крышкой стол, массивное, вращающееся вокруг своей оси черное кожаное кресло с высокой спинкой. Остальные стулья, родные братья первым трем, стояли у стены, сверкая и маня лакированной деревянной основой и свежей, не засиженной, пышностью ярких гобеленовых сидений.
Паркетный пол был устлан ковровыми дорожками, слегка притертыми шмурыганьем десятков, а то и сотен, ног.
Таких кабинетов не только в опорном пункте не имелось, но и во всем Промышленном отделе милиции, где было тесно, тускло и серо. О них служителям порядка и закона приходилось только мечтать.
Чувствовался уровень. Училище готовило специалистов для строительных организаций. Поэтому шефы — руководители организаций и предприятий — и позаботились о благоустройстве кабинета директора. И не только кабинета директора, если говорить по правде, но и всего комплекса училища. Классные комнаты, мастерские, столовая — все лучилось и сверкало чистотой и добротностью.
— Может, все-таки, по пивку, — потянулся Шевляков в сторону холодильника, замаскированного в одном из шкафов, когда Паромов встал, чтобы покинуть кабинет. — На улице, наверно, жара…
— Пиво, как знаешь, вообще не употребляю, — вынужден был повториться Паромов.
— Тогда грамм сто коньячку? А?
— Спасибо. Извини, но вынужден огорчить: я на работе. Рановато баловаться коньячком.
— А я, по-твоему, где? У тещи на блинах? — улыбнулся беззлобно Шевляков. — Сто грамм ничего не испортят, только бодрости придадут.
— Нет! — остался при своем мнении Паромов и двинулся к выходу.
И уже от двери, чтобы смягчить резкий тон категоричного «нет», как бы соглашаясь, нейтрально бросил:
— После работы — куда ни шло. Можно и ста граммами побаловаться. А пока — извини…
— Вот так каждый раз, — шутливо развел руками Шевляков. — Днем нельзя, потому что работа, а вечером — потому что дома уже ждут. Некогда. Все нам некогда за работой да за делами. Так и жизнь пролетит за этим «некогда». Оглянуться не успеешь, как «некогда» в «никогда» превратится! Вот мы с тобой и никогда сто грамм и не выпьем…
Каждый раз в таких случаях в Шевлякове просыпался философ. Грустный или насмешливо подковыристый. В зависимости от времени и обстановки.
— Будем живы — выпьем… — улыбнулся Паромов и шагнул из кабинета в приемную.
— До свидания, Машенька, — продолжая улыбаться, попрощался он с секретарем, миловидной блондиночкой, лет двадцати, в джинсовом брючном костюме, эффектно обтягивающем стройную фигуру, что-то щебетавшей по телефону. — Не обижайте Василия Григорьевича.
Шутка была заезженная и отчасти глупая, но все равно требовала ответной реакции.
Машенька прикрыла микрофон миниатюрной ладошкой, чуть ли не прозрачной, с тоненькими и длинными наманикюренными пальчиками, чтобы не слышал абонент, и, состроив дежурную улыбку, пошутила:
— Как же, вас обидишь. Как бы саму не обидели! Вон, какие все шустрые, рукастые да языкастые! Только успевай поворачиваться да уворачиваться! — И, не вставая со стула, игриво колыхнула небольшим, но крепеньким бюстом, словно показывая, за какие такие места ее пытаются приловить разные там шустрики.
— О-о-о! — дурашливо округлил глаза Паромов.
— О-о-о! — уже естественно, а не как первоначально искусственно, улыбнулась Машенька.
Потом, засмущавшись, чисто по-детски, показала язык, отвернула личико, сняла ладошку с пластиковой сеточки микрофона и опять переключилась на свое щебетанье по телефону.
«Хороша Маша, но, жаль, не наша!» — усмехнулся уже про себя старший участковый, покидая приемную.
Третьим пунктом его посещения стал продовольственный магазин на углу улиц Народной и Обоянской, знаменитый тем, что возле него собирались на «планерку» местная «элита». Проще — шалупонь: тунеядцы и лодыри всех мастей и окрасов, выпивохи от начинающих пьяниц до хронических алкоголиков, судимые различных категорий, начиная с тех, кто был осужден условно, и, кончая теми, кто уже отбыл положенное наказание в местах не столь отдаленных. Словом, сюда сходились, сбегались, сползались все «сливки общества» поселка резинщиков и его окрестностей. И с их подачи все милиционеры сборища эти также называли «планеркой».
«Планерка» у магазина — это было что-то вроде своеобразного клуба по интересам определенной социальной прослойки людей, не ладивших с законом, отвергаемых обществом, но жаждущих общения. Впрочем, кроме общего, ни к чему не обязывающего общения обо всем и ни о чем конкретно, на «планерках» можно было встретиться с «нужными» людьми, обсудить ту или иную новость на криминальную тему. Например: Клен освободился, а его брат, наоборот, сел; или, что Шоха крупно выиграл в карты, а Хлыст проигрался до копейки. Никогда не теряли актуальность беседы о том, что самогон у бабки Кати с улицы Дружбы крепче, чем у Клауси с улицы Белгородской, которая разбавляет его водой. Но Клауся может дать в долг, а баба Катя — никогда.
«Слышали, от Петьки Мутного ушла жена?» — скажет кто-нибудь с ленцой, потягивая взятый у соседа «бычок».
«Достукался», — хихикнет кто-то.
«Ушла пила, и некому пилить Петруху…» — глубокомысленно изречет еще один.
«Нам теперь к нему проще причалить, ежели что…» — тут же найдется сообразительный и деловой.
«А Кузьма Кривой стал сожительствовать с Галюхой Долгополовой, — докурив до самой крайности «примку», метнет щелчком чубарик первый.
«Так она недавно заразила триппером половину Парковой», — тут же добавит информированный.
«За что и бита сексуальными страдальцами», — хихикнет смешливый.
«А куда же делась ее сестру Валюха, с которой до этого сожительствовал? — раскроет щербатый рот несведущий.
«Так прогнал».
Вроде бы ничего путного и не сказано, но хоть роман пиши — около десятка человеческих судеб затронуто. А главное, все участники «планерки» в данной среде чувствовали себя, если не как рыба в воде, то вполне уверенно, даже с каким-то чувством собственной значимости.
Тут не кричали и не упрекали визгливые жены, не косились с осуждением и с брезгливостью благополучные соседи, не кивали головами и не шептались в спину досужие старушки. Тут не было начальников и подчиненных. Тут можно было оставаться самим собой, и не пыжиться, и не казаться, строя что-то большее, чем есть на самом деле.
В складчину покупали бутылочку винца, а если повезет, то и парочку. И под шуточки и прибауточки, изрядно сдобренные заковыристой матерщиной, под занюхивание рукавом, выпивали на лавочке у подъездов близлежащих домов. Это, если было сухо и солнечно, или в подъездах, если небо вдруг куксилось и плакалось дождиком или снежком. Жильцов этих домов старались не задевать, чтобы те проявляли терпимость и как можно реже обращались в милицию. И не только не задевать, но и по возможности угостить, отрывая с болью в сердце от себя крохи живительной, а точнее, губительной, влаги.
В свою очередь, такие «счастливцы» не то чтобы гнать «планерщиков» в шею из своих подъездов, наоборот, пытались им услужить: кто стаканчик вынесет, чтоб пить не из горлышка, кто кусок хлебца, а кто и шмат сальца. Подзакусить. Некоторые, особенно доброхотливые, не гребовали и в комнатушку свою пригласить. Не в квартиру, а именно, в комнатушку. Так как вышеуказанные дома по улице Обоянской и Народной были малосемейками. Проще говоря, семейными общежитиями, состоящими из пяти или шести комнатных секций с общими кухнями и санузлами.