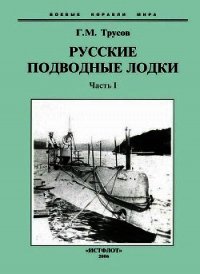Мне тебя заказали - Стернин Григорий (чтение книг .TXT) 📗
— По-моему, мне не надо повторять задание, Евгений Петрович, — нахмурился честолюбивый Сидельников. — Я такого недоверия не заслужил.
— Гордый, до чего гордый и благородный ты человек, Пётр Петрович, — расхохотался Гнедой. — А за благородство надо платить. Пошли в закрома, ты святой человек, тебе можно…
Глава 14
Делом Кондратьева занялась городская прокуратура. Ему было предъявлено обвинение по статье сто третьей Уголовного кодекса — умышленное убийство. Дело стал вести опытный следователь Илья Романович Бурлак. Алексея перевели в «Матросскую тишину», и потянулась для него унылая, нелепая жизнь в душной зловонной камере, где ждали своей участи восемьдесят с лишним человек.
Он был внешне спокоен, замкнулся в себе, в обиду себя не давал, да и после нескольких небольших стычек его никто обижать и не пытался. В первую же ночь на Петровке Алексей сорвал зло на своём приблатненном золотозубом соседе, любителе поговорить, не понявшем, с кем он имеет дело, и решившем ночью выяснить с ним отношения. Сокамерники чувствовали, что с этим суровым седым человеком лучше не связываться, что он вполне может постоять за себя и достаточно опасен. Порой ему приходилось защищать от блатных молодых, случайно попавших в этот кромешный ад людей.
Адвокат Пётр Петрович Сидельников наведался к нему ещё на Петровку. В принципе, этот внешне скромный, предельно деловой человек понравился Алексею. Говорил он мало, вопросы задавал только по существу. Он сразу сказал, что полностью отвести обвинение в убийстве вряд ли удастся, но отвечать за него он должен не по сто третьей, а по сто пятой статье — за превышение пределов необходимой обороны. Дырявин пытался его убить, и Кондратьев, защищаясь, сам того не желая, убил его.
Бурлак же в это время вёл активную работу со свидетелями. А нашёл он их немало. И свидетельствовали они не в пользу обвиняемого.
Толстый Пал Егорыч показал, что разговаривал с Кондратьевым, когда тот менял колесо. Когда же он возвращался с собакой домой, он увидел странную сцену — Кондратьев душил какого-то лежавшего на земле человека. А потом сел в машину и уехал. А он, хоть и был с овчаркой, вмешаться побоялся и нырнул в подъезд. Примерно то же показала и старуха Жилкина, жившая в том же подъезде на пятом этаже.
— Усе, усе видела, святой истинный крест, усе видела, — божилась она перед здоровенным черноволосым Бурлаком. — Я встаю рано, делать мне нечего, одинокая я, и гляжу себе в окно. Так вот… Вышел этот самый квартирант из подъезда, стал менять колесо. Тут наш Пал Егорыч со своим кабыздохом вышел. Он кажное утро выходит. Я вообще-то в ЖЭК на него жаловалась, поганый он, кабыздох его… Облаял меня как-то… А я ему — нет такого порядка, чтобы честных гуляющих граждан каждая тварь…
— Об этом, если можно, в другой раз, — мрачно попросил Бурлак.
— О чем-то они, значит, с Егорычем балакали, — продолжала своё повествование старушка. — А потом откуда ни возьмись мужик. Он спиной стоял к окну, и чего он там делал, не знаю. Но своими глазами видела, как квартирант ему в харю машинный насос запузырил. Тот на спину и грабанулся. Квартирант над ним нагнулся и чегой-то там с ним химичить стал. Тут, вижу, как раз снова Пал Егорыч появился… А потом я на кухню побежала, там у меня молоко на плите закипало. Ну, выключила я молоко, и снова к окну. И святой истинный крест, видела, как тот ему рот рукой прикрыл, и вроде бы как душит… И все. Потом встал, на ахтонобиль свой сел и… будь здоров. А потом уже «Скорая» приехала и милицейская машина тут же…
— На какую машину сел этот человек?
— А я разбираюсь, на какую, чо я в этом маракую? На легковую, понятно, не на грузовик же. Да и темно же было…
— Как душит, вы видели с пятого этажа, а марку автомобиля не запомнили, — досадливо произнёс Бурлак.
— А я в людях маракую, и что один мужик другого душит, сообразить могу, от ума ещё не отошла, — злобно парировала старуха. — А вот в чем не маракую, врать не стану. Я на них отродясь не ездила, автобусом пользуюсь… Тёмный был ахтонобиль и легковой… Можа, «Мырсыдес»? — решила блеснуть она знаниями.
— А что же вы в милицию не позвонили? — спросил Бурлак.
— Так я и хотела позвонить, а тут мигом две машины и подъехали, чего звонить-то зря?
Пал Егорыч Соломатин на вопрос, почему он не позвонил в милицию, откровенно ответил, потупив подслеповатые глазёнки:
— Время такое страшное, товарищ следователь… Я как домой вернулся с прогулки, пошёл было к телефону-то, он у нас в прихожей стоит, но боязно стало звонить. Поймают потом ещё в подъезде и прихлопнут как муху. Но я все же было решился, пошёл ещё раз поглядеть в окно, что там творится… а тут уже две машины, и «Скорая», и милицейская…
На опознании и Жилкина, и Соломатин из трех мужчин сразу опознали Кондратьева.
— Вы опознали в нем человека, живущего с вами в одном подъезде, — уточнил Бурлак. — А опознаете ли вы в нем человека, душившего Дырявина?
— Он и душил, — ответила Жилкина. — Кто же ещё?
То же самое через некоторое время, опасливо глядя в сторону и боясь встречаться глазами с Алексеем, повторил и Соломатин. Тучи над головой Кондратьева продолжали сгущаться.
… — Ты же гениальнейший человек, Лычкин! — смеялся Гнедой. — У тебя не то что шестое, у тебя двадцать шестое чувство имеется. Ты словно все предугадал, раз на это дело надел такую же куртку, как у Кондратьева. Залетит этот ветеран в дом родной и без помощи Петра Петровича, зря я ему только гонорар плачу… А бабку эту дристушку и полуслепого мудака Соломатина нам просто бог послал. А бог что любит, а, Гаврилыч?
Лычкин пожал плечами, с обожанием глядя в глаза Гнедому, сидящему в мягком кресле в белом толстом свитере и бордовых брюках.
— Бог любит троицу! — расхохотался Гнедой. — Послал же он нам старуху и любителя прогулок на природе с животными Павла Егоровича с ослабленным зрением. Но больно уж они оба нелепы, несуразны и подслеповаты. То ли Кондратьев душил, то ли ещё кто — темно, далеко… Нет, нам нужен ещё один свидетель, убойный, как говорится, свидетель… В очко играешь?
— Играю.
— И правильно делаешь, — одобрил Гнедой. — Это очень полезное занятие, так как развивает логическое мышление. А как там? Перебор, разумеется, чреват, но ведь чреват и недобор… И двадцать два плохо, но и девятнадцати может оказаться недостаточно.
— А может оказаться и достаточно, — потупив глаза, произнёс Михаил. — А двадцать два — это все… Это проигрыш…
— Соображаешь, парень, толковый ты… Есть доля правды в твоих словах… А к добрым советам мы прислушиваемся… И все же я полагаю, да и Пётр Петрович со мной солидарен, что судья может счесть показания Жилкиной неубедительными. Достаточен следственный эксперимент — поглядеть в темноте с пятого этажа глупыми глазёнками старушонки, — и каждый скажет: она с такого расстояния разве что Тайсона от Плисецкой отличит. И даже если это был Кондратьев, так душил или нет, это ещё большой вопрос. Ведь он и сам говорит, что наклонился, пульс щупал, документ экспроприировал, «пушку»… Павел Егорович же хоть и видел, что лежавшего на земле именно душат, но очень уж он подслеповат, все это проверяется тем же следственным экспериментом… Нет, нет, обязательно нужен кто-то ещё. Убойный…
— Но ведь никто больше в окно не смотрел. Очных ставок и опознания больше не было…
— Дом большой, Мишель. Вдруг ещё в ком-нибудь совесть проснётся… — хитро глядя ему в глаза, произнёс Гнедой. — Жалко вот, что к Бурлаку этому подходец невозможно найти, этакий медведь… Одна надежда на нашего хитрожопого Петра Петровича… Ладно, мы все о деле да о деле. Ты расскажи лучше, как отдохнул в Турции? Как денежки потратил? Есть там где денежки-то потратить?
— Есть, — улыбнулся Михаил. — Ещё как есть…
— Полюбил я тебя, Мишель, как родного сына, — сказал Гнедой. — У меня у самого их, насколько я помню, четверо. От разных жён. И что-то все они мне не нравятся, — сморщился он. — Ну не нравятся, и все тут… Какие-то они эдакие… Не в меня пошли… А вот ты нравишься, да и по возрасту я тебе в отцы гожусь… Да, много было у меня жён, — потянулся он, его красивое лицо озарилось воспоминаниями. — Но любил я только одну… Её звали Эльмира… Она была чеченка по национальности. Я выкрал её из родительского гнёзда, я лишил её невинности. За мной гнались на лихих конях её грозные братья. И было это дело в Грозном. А потом один из братьев застрелил её, когда мы с ней удирали от них… Стрелял он и в меня, но я прикинулся мёртвым, лежал без движения… А потом, когда они ускакали, прополз несколько километров и умудрился сесть в товарняк и исчезнуть оттуда навсегда… А Эльмира была беременна на третьем месяце… Вот дела-то какие, Мишель. Представляешь, какой бы у нас с ней мог быть сын. Во мне замешано… — Он стал загибать пальцы обеих рук. — Шесть кровей, а тут бы ещё и чеченская… А? Но… не судьба. А у тебя есть дети, Гаврилыч?