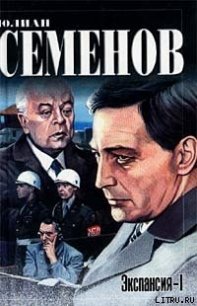Экспансия – II - Семенов Юлиан Семенович (книги без регистрации полные версии txt) 📗
Потом он пустил чуть теплую воду, забрался в ванну и десять минут блаженствовал; вспомнил давешнего собеседника. Интересный старик. В наше время колоритных людей мало, идет какая-то штампованная продукция, а не люди. Отчего так? Говорят, раньше в газете значительно быстрее замечали одаренных репортеров, ждали их публикаций; теперь ждут кратких сообщений, как одета Джоан — диктор второй программы радиослужбы Би-би-си; не очень-то даже и вслушиваются в то, что она читает; только когда дают динамику роста доллара и соответственно падения фунта, кончают болтать, пить чай или мыть посуду: деньги есть деньги — жизнь, говоря точнее. Все-таки радио убивает журналистику, оно открывает дверь в любой дом ногой, снисходительно и властно, причем особых усилий на это и не затрачивает; материалы читают серые, слова нет, чистая фиксация фактов. А тут, в газете, надо вертеться пропеллером, чтобы найти изюминку. О сенсации и говорить нечего, это стало редкостью. Статьи об «угрозе Кремля», о стычках католиков с полицией, о ситуации в Греции стали бытом, к этим трафаретам уже привыкли, своих забот хватает; люди все больше и больше интересуются тем, что происходит на Острове, слишком много нерешенных проблем.
Поэтому-то Сэмэл так искал сенсационные материалы, паблисити для журналиста прежде всего: знакомился с замшелыми историками, которые рассказывали забытые страницы биографий писателей, художников и актеров. Кстати, про художников читают меньше, особенно интересуются актерами, потому, видимо, что каждый человек в душе актер; все мы играем дюжину ролей одномоментно, поди иначе проживи, вмиг сомнут.
Сэмэл вылез из ванны, докрасна растерся жестким полотенцем, потом вернулся на кухню, включил плиту, поставил сковородку, разболтал в воде яйца, сделал омлет, заварил кофе и включил радио; он называл его «мусоропроводом», держал на кухне, на подоконнике. Вспомнился отчего-то диск русского певца Вертинского — совсем недавно поступил в продажу в цикле «Голоса минувшего». Там была прекрасная песня «Как хорошо проснуться одному в холостяцкой постели». «Действительно, — подумал Сэмэл, — всего одна строка, а сколько в ней высокого смысла. Бедная мама, она мечтает, чтобы я женился. А я не женюсь, ни в коем случае не женюсь. Я не смогу тогда сидеть на кухне голым и мечтать, о чем хочется; я должен буду гнать самого себя с утра и до вечера — еще бы, семья. Конечно, я люблю мамочку, но какая мука сидеть у нее в гостях и выслушивать ее советы; старики все-таки несносны, живут своими представлениями, считают нас детьми, несмышленышами. То же самое ждет и меня, если я женюсь и заведу оболтуса. Он, так же как и я, будет придумывать отговорки, только бы не прийти ко мне вечером и не выслушивать мои сентенции; воистину, все возвращается на круги своя. Лучше заведу еще двух собак, если почувствую себя старым; что может быть прекраснее Нелли? Никогда не предаст, не человек ведь. И никаких претензий — накорми и выгуляй, всего лишь. Одиночество? Я не знаю, что это такое. Во мне живут двадцать разных людей, поди управься с ними. Одиночество страшно для глупых, слабых или больных. А жить больному ни к чему. Десять таблеток снотворного — и никаких мучений. При всех издержках середины века именно эта пора учит кардинальности решений. Как это говорят на Востоке? „Страшно умирать лишь тому, кто за всю жизнь не посадил дерева“. Все-таки на Востоке думают совершенно особенно, очень емко и афористично».
Сэмэл подчистил сковородку корочкой горячего хлеба, выпил кофе и, вернувшись в комнату, набрал телефон редакции. «Сегодня дежурит Бен, циник и пьяница. Циники — умные люди: никаких условностей, все обговорено с самого начала, самая удобная позиция; только отчего-то люди бегут именно ее, сочиняют условности, в которых сами же потом путаются и клянут их на чем свет стоит. Какая все же глупость — наша жизнь, сколь она несовершенна, а мы уже и в небо забрались, хотя здесь, на земле, ничего толком так и не решили».
— Бен, привет, это я.
— Хорошо, что позвонил.
— Что-нибудь случилось?
— Ничего особенного, кроме того, что твой репортаж оказался гвоздем, газеты раскуплены, даем дополнительный тираж.
— Да ну?!
— Именно так, малыш, именно так.
— Слушай, я сейчас приеду, а?
— Ты лучше не приезжай, Майкл. Ты лучше садись за продолжение. Поверь неудачнику от журналистики: если ухватил тему — не слезай с нее до конца! Садись и пиши, понял?
— Понял, — ответил Сэмэл и, положив трубку, подумал: «Я бы с радостью сел за продолжение, но ведь у меня больше ничего нет. Черт, зачем я не оседлал этого самого сэра Эдварда, или мистера Вестминстера?!»
Незнакомец, однако, позвонил ночью, поздравил с удачей, продиктовал адрес миссис Рубенау в Швейцарии, пояснив: «Это совсем недалеко от Лозанны, сказочной красоты место. Женщина осторожна, не спугните ее. Обязательно возьмите с собой газету, несколько экземпляров, она вам будет признательна. Только не передавайте ей то, что сейчас скажу вам я; мистер Бользен, видимо, в ближайшее время объявится в Аргентине, скорее всего — в провинции Мисьонес, на границе с Бразилией. Возможно, какое-то время он пробудет в Асунсьоне, Парагвай. Я поставлю вас об этом в известность, когда вы вернетесь от миссис Рубенау. До свиданья, желаю вам удачи! Убежден, ваш новый материал вызовет еще больший интерес, чем первый».
…Аппарат Гелена озаботился тем, чтобы газета с материалом Майкла Сэмэла сразу же ушла в Аргентину, Парагвай и Чили — по нужным адресам; так угодно комбинации.
В том, что этим материалом займется британская разведка, Гелен не сомневался: на фото, опубликованном в газете, Штирлиц был сфотографирован вместе с Шелленбергом. Надо подготовиться к возможному контакту с английской службой.
Но Гелен никак не мог предположить, что более всего этой статьей заинтересуется сеньор Рикардо Блюм, он же бывший группенфюрер СС Генрих Мюллер.
Штирлиц (рейс Мадрид — Буэнос-Айрес, ноябрь сорок шестого)
Прижавшись лбом к иллюминатору, Штирлиц смотрел на огни ночного Мадрида. «Словно пригоршня звезд, упавших на землю, — подумал он, — только в небе звезды таят в себе постоянную напряженность дрожания, а эти, земные, неподвижны, и цвет их разный: голубые, желтоватые, тускло-серые, мертвенно-белые — бутафория. То, что есть жизнь на земле — освещение улиц, свет в окнах, игра реклам, отсюда, сверху, кажется чужим, а истинные звезды, наоборот, становятся близкими тебе, ведь именно по ним пилот будет вести аэроплан через Атлантику, только они и будут связывать меня с надеждой вновь увидеть землю. Надежда… А что это? Ну-ка, ответь, — сказал он себе, — попробуй ответить, тебе надо ответить, потому что внутри у тебя все дрожит и ты подобен загнанному животному, которому отпущен короткий миг на передышку, прежде чем гончие вновь возьмут потерянный след и снова сделаются близкими голоса охотников, лениво продирающихся сквозь осеннюю, хрусткую чащобу.
Спасибо тебе, папа, спасибо за то, что ты был! Господи, какое же это таинство — от кого родиться, с кем жить под одной крышей, от каких людей набираться ума… Закономерность людских связей непознанна, да и закономерность ли это: от кого кому родиться? Впрочем, — заметил он себе, — ты же всегда стоял на том, что случай закономерен в такой же мере, как иной закон — случаен…
Наверное, все-таки таинство родственных уз важнее даже, чем лотерея с местом рождения. Появись я на свет где-нибудь в Новой Зеландии, на маленькой ферме возле берега океана, прошли бы мимо меня революция, интервенция, войны… А ты хотел бы этого? У тебя была бы семья, камин в углу холла, дети, может быть, внуки уже. Это так радостно — иметь внука в сорок шесть лет! Ты хотел бы этого — взамен того, что тебе дала жизнь? Ишь, инквизитор, — подумал он о себе, — разве можно ставить такие вопросы? Даже врага грешно спрашивать об этом, а уж себя тем более. А вообще-то я бы хотел жить одновременно несколькими жизнями: и в тишине новозеландской фермы, и в Бургосе тридцать шестого, и в Берлине сорок пятого, и, конечно же, в октябре семнадцатого, как ни крути — главный стимулятор истории, пик века. Нет, — сказал себе Штирлиц, — ответ обязан быть однозначным — «да» или «нет». Иди-ка ты к черту, Штирлиц. — сказал он себе и с ужасом подумал, что к черту он гнал не Севу Владимирова, под этим именем он жил до двадцать первого, не Максима Исаева, он был им до двадцать седьмого, а именно Штирлица, им он был девятнадцать лет, добрую половину сознательной жизни. — И самое ужасное заключается в том, что думаю-то я чаще по-немецки… Менжинский в свое время говорил мне, что русские разведчики будут сыпаться на манере счета: только в России загибают пальцы, отсчитывая единицу, десяток или тысячу; во всех других странах — отгибают пальцы от ладони или загибают их, начиная с большого пальца. Русские же поначалу загибают мизинчик, потом безымянный, средний, указательный, а прикрывают пальцы, окончив счет, большим — вот тебе и кулак… Кстати, Воленька Пимезов — помощник шефа владивостокской контрразведки, знаток российской «самости» — причислял и это качество к мессианскому призванию нации; покончил с собой в Маньчжурии в сорок пятом, накануне краха Японии, а как перед этим разливался в «Русском фашистском союзе», как пел, голубь…»