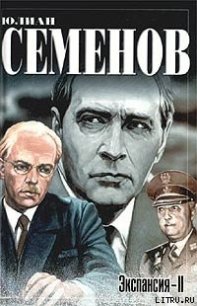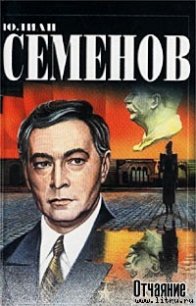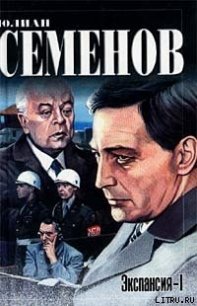Экспансия – III - Семенов Юлиан Семенович (читать полную версию книги .txt) 📗
Осмотрительность — необходимое качество человека, способного стать эффективным правителем.
Осмотрительность и осторожность предполагают наличие «практического ума».
Это — сдержанность, не переходящая в скрытность; покладистость, не переходящая в простодушие; учтивость, не переходящая в слабость.
Таким образом, движение должно искать и организовывать в соответствии со своими идеями две группы безусловно честных людей: во-первых, умных и знающих, чтобы служить советниками, и, во-вторых, простых, осмотрительных и с сильным характером, чтобы управлять». Это ваш текст?
Шелленберг.(смеясь). — Боюсь, что да.
Вопрос. — Вы не ошибаетесь?
Шелленберг. — Нет.
Вопрос. — Хотите взглянуть на подлинник?
Шелленберг. — Да… Погодите… Но это же…
Вопрос. — Вот именно, Шелленберг! Мы прочитали вам текст, написанный сотрудниками Перона. Итак, когда и как, через какие каналы ваша служба помогала перевороту Фарелла — Перона? И посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Кто на ней изображен?
(Предъявляется фото для опознания.)
Шелленберг. — Посредине шеф гестапо Генрих Мюллер… Слева — обергруппенфюрер СС Поль, начальник хозяйственного управления СС, отвечавший за концентрационные лагеря… Справа, если не изменяет память, испанский посол… Рядом с ним… хм, странно, редактор «Штюрмера» Юлиус Штрайхер… Это генерал Виго-и-Торнадо, разведка Франко… А это… Уж не секретарь ли это испанского посольства?!
Вопрос. — Фамилия?
Шелленберг. — Не помню. Он, действительно, какое-то время контактировал между моей службой и Пуэрта дель Соль.
Вопрос. — Под какой фамилией?
Шелленберг. — У него был — во всяком случае для нас — псевдоним… Кажется, «Мигель».
Вопрос. — Переверните фотографию, там есть расшифровка фамилий… Это именно тот Хосе Росарио, которым мы заинтересовались в начале допроса… Вам известно, что он окончил особую школу СС и стажировался лично у Мюллера — накануне передислокации в Аргентину?
Сенатор Оссорио, Клаудиа (Буэнос-Айрес, сорок седьмой)
— И вы не знаете, кто ваш друг? — снова спросил Оссорио, отодвигая от себя чашку (Клаудиа, как и просил Штирлиц, вышла из квартиры первой, попросила сенатора назначить встречу в кафе: «Я вас там буду ждать минут через двадцать»; увиделись в «Тортони»). — Не знаете, кто он? Зачем родился на свет? Что любит? Что ненавидит?
— Он ненавидит тупость. Цинизм… Трусость… А я его просто люблю… Не знаю, за что… За все… Этого достаточно, наверное, — ответила Клаудиа. — Человек, который смог сотворить себе кумира, самый счастливый человек на земле.
— А если кумир пал? Разбился вдребезги?
Клаудиа покачала головой:
— Такого не может быть… Нет, может, конечно, но, значит, вы не любили.
— Сколько лет вы его знаете?
— Десять.
— Все эти годы были вместе?
— Нет… Что бы я вам ни объясняла, вам не понять меня, сенатор… Даже женщина меня бы не смогла понять, а ведь у мужчин совершенно иной образ мышления… О чувствах уж не говорю…
— Почему он так интересуется известной нацистской проблемой?
— Я же говорю: ему отвратительна тупость, слепота, муштра… Его живопись… Он рисовал, когда жил у меня, в Испании… Такие цвета, которые он мог создавать, я не видала больше ни у кого…
— Он был республиканцем?
Клаудиа ответила не сразу:
— Кем бы он ни был, он всегда был честным… Можете спросить о нем у Антонио, друга дона Эрнесто…
— Как?! Он знает его?!
— Да.
— С этого бы и начинали! Друг сеньора Хемингуэя — мой друг!
— Знаете, я солгала вам, когда произнесла его имя… Я за него постоянно боюсь… Его зовут не Массимо, он не итальянец… Макс, его зовут Макс Брунн…
— Немец? — насторожился Оссорио. — Он немец?
— Он Брунн, — ответила Клаудиа. — Он просил описать вам его внешность, он допускает, что его именем вам может представиться другой человек… Вы слушаете меня?
— Да, да, конечно… Меня удивило, что он немец…
— Сначала я опишу вам его, ладно?
— Еще кофе?
— Нет, спасибо… Он очень волновался за вас… Он говорил, что все попытки, которые предпринимались, чтобы получить ваши материалы, были только подступом… Главное — впереди. Вас намерены скомпрометировать… А он очень верит в человеческие глаза, мой… друг… Когда вы посмотрите на него, вы поймете, что я пришла не как влюбленная дура… Я реальный человек, сенатор, реальный, хоть и женщина…
— В чем вы видите свой реализм? — сухо поинтересовался Оссорио. — В чем его разница с романтизмом, например? С натурализмом?
— Не знаю, — Клаудиа заставила себя улыбнуться, потому что внезапно ощутила стену недоверия между собой и собеседником, хотя он поначалу любезно согласился встретиться с нею, пообещав по мере сил оторваться от слежки («Да, конечно, я знаю, что за каждым моим шагом следят, но я уйду от них»); однако сейчас, когда они устроились напротив друг друга в уютном «Тортони», где в это время никого, кроме них, не было, Оссорио вновь стал таким, каким был дома, в проеме двери, в первое мгновение их встречи.
— А если подумать? — по-прежнему сухо спросил он.
— Наверное, реализм — это когда я утверждаю, что перед нами стоят две пустые чашки, на улице довольно прохладно и вы не верите ни одному моему слову.
— Пустые чашки — мнение индивидуума, что есть венец натурализма, — возразил Оссорио. — Это же проецируется на ваше отношение к погоде, которая совершенно очевидна… Что же касается того, верю ли я вам… Суть реализма в том, чтобы взрывать тайну, отказываться от догматов веры, а вот романтизм, да и натурализм тоже тщатся сохранить прекрасную тайну, для этого холят в человеке веру…
— Мне уйти? — спросила Клаудиа. — Вы очень жестки, сенатор. Вы боитесь приблизиться к человеку, это очень плохо, вы так не выдержите, нельзя жить в себе…
— Что можете предложить? — спросил Оссорио, вздохнув. — Верить каждому, кто приблизился к тебе? То есть стать дураком? Доверчивым дураком, который тянется к тому, кто говорит угодное?
— Мне уйти? — повторила Клаудиа.
— Да, пожалуй.
— Зачем же вы согласились на встречу со мной?
Оссорио откинулся на спинку кресла и честно признался:
— Я испугался имени вашего многознающего друга, сеньора.
— Меня зовут Клаудиа, я испанка, а не немка, хотите посмотреть паспорт?
— Был бы весьма обязан.
Женщина достала из дорожной сумки серый паспорт и протянула его Оссорио; он пожал плечами:
— У вас на родине, действительно, большие перемены. Женщине, которая не любит нацистов, разрешают летать за границу.
— Я никогда не была с друзьями сеньора американского писателя, не воевала против Франко, как этот янки…
— Кого вы имеете в виду? — лицо Оссорио было по-прежнему холодным, непроницаемым. — Какого янки? Какого американского писателя?
— Ну… Этого… У которого работает Сааведра…
Оссорио усмехнулся:
— Вы что, не читали книг Хемингуэя? Или у вас плохая память?
— А вы что, не знаете, что он запрещен в Испании?
— Догадываюсь… Странно, что такая мощная нация позволяет маленькому генералиссимусу запрещать великое слово…
Клаудиа отодвинула от себя чашку еще дальше и холодно отчеканила:
— А вот я, посидев с вами, не удивляюсь, отчего аргентинская нация, далеко не последняя на свете, так легко отдала власть другу нашего подонка Франко. Все горазды говорить о прошлом, кто б подумал про будущее?! До свидания, сенатор! Очень жаль, что вы не захотели выслушать меня… Я была готова описать вам моего друга… Теперь мне расхотелось делать это.
Поднявшись, она взяла со стула свою сумку и, не прощаясь, пошла к двери.
— Погодите, — остановил ее Оссорио. — Погодите. Сядьте. Речь в конечном счете идет не просто о моем добром имени, но и о жизни семьи.
Клаудиа какое-то мгновение раздумывала, стоит ли возвращаться; Оссорио стал ей в эти минуты остро несимпатичен; не человек, а какая-то скрежещущая касса, что выбрасывает мелочь в лавке, где она обычно покупала каталонский сыр.