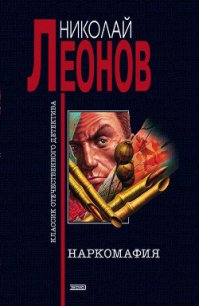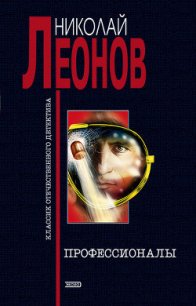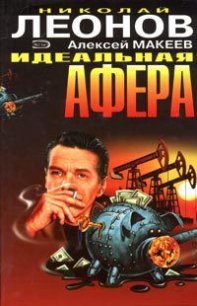Удачи тебе, сыщик! - Леонов Николай Иванович (книги хорошего качества TXT) 📗
Роговой отбросил подушку, вновь сел и проклял ночь, которая, казалось, не имела конца.
Работники цирка, начиная от билетеров и кончая директором, не ворочались в постелях, а находились в Управлении внутренних дел. Одни писали объяснительные, другие отвечали на вопросы оперативников, третьи, ожидая своей очереди, маялись в коридорах. Уголовное дело возбудила прокуратура, но опрос такого количества людей следователю был, естественно, не под силу, он дал соответствующее поручение, и работали оперативники.
Вопросы всем задавались одни и те же, так как ничего нового в данной ситуации придумать еще никому не удавалось. Где вы находились в такое-то время? Не видели ли в служебных коридорах посторонних? Не заметили ли чего-нибудь подозрительного либо необычного? Когда, где, при каких обстоятельствах видели последний раз Ивана Ивановича Мухина?
Майор Фрищенко беседовал с людьми, имеющими непосредственное отношение к конюшне. Майор понимал, что ни черта они этим бреднем не вытащат и вскоре останется он с кипой исписанной бумаги. В городе же поговорят-поговорят и забудут. На дворе март, а виснет третье убийство, совсем же недавно такой тихий был город… Гурова майор знал давно, дважды сталкивался по работе, порой доходили слухи. Фрищенко москвича не любил, признавал, что оперативник он классный, но человек абсолютно чужой, высокомерный и холодный, а что простаком держится, так это от профессии, умеет перекраситься. И хотя Гуров был значительно старше и по званию, и по должности, Фрищенко обращался к нему на «ты». Полковник же и бровью не вел, держался как с равным, спокойно и уважительно, чем вызывал еще большее раздражение Фрищенко.
Майор переходил из кабинета в кабинет, словно сомнамбула. Вид отрешенного глухонемого начальника угро мог обмануть кого угодно, только не оперативников, которые отлично знали: майор все прекрасно видит и слышит, ничего не забывает. Когда Фрищенко неожиданно материализовывался в кабинете и, привалившись плечом к стене, почему-то он никогда не садился, застывал в привычной позе, ведущий беседу оперативник невольно напрягался, начинал говорить громче, вопросы задавал жестче. Начальник мог простоять минуту, а мог и десять, неслышно исчезал, из прокуренного кабинета перемещался в еще более прокуренный коридор, прохаживался, снимая своим появлением естественные сейчас разговоры, которые за его спиной тут же возобновлялись с еще большим накалом.
И понятно, люди к убийствам еще не привыкли, не дай бог, если такая привычка появится.
Во время очередного обхода Фрищенко отыскал директора, которого давно допросил лично и отпустил. Но Капитан не считал возможным оставить свою команду, распорядился принести из своего кабинета чай, вытащить из холодильника торт. В коридоре чаевничали, облизывали липкие пальцы и, поглядывая на директора с благодарностью, но и с вызовом, курили. Плюшки, пирожные, различные печенья являлись слабостью Капитана, и у него была своя маленькая пекарня, которая существовала задолго до появления приватизации. Доносить в милицию, прокуратуру, в горком и Советы об этом факте не стали: люди и город гордились, что вот еще ни у кого нет, а у них, в цирке, есть. И даже первый, когда-то назначенный, потом всенародно избранный, предпочитал не выписывать засохшие лакомства из столицы, а обращался к Капитану и получал прямо к столу свежую выпечку. И в городе доподлинно знали, что именно с первого Капитан берет двойную цену, и подобная дерзость радовала людей, согревала души, создавала иллюзию демократии и свободы.
Майор завел Капитана в свой кабинет, указал на стул, уселся напротив, даже приоткрыл глаза.
– Чего будем делать-то, Капитан? Хреновые наши дела, надо сказать. И чудится мне, что это – только цветочки.
Семен Фрищенко и Лешка Колесников родились в этом городе, тут учились, гоняли в футбол, беседовали и веселились, женились, рожали детей, в общем, жили. И хотя особо не приятельствовали, всегда помнили, что растут от одного корня.
– Верно, хреново, коли ты, милицейский, меня, циркового, о своих делах спрашиваешь, – ответил Колесников, дернул подбородком, глянул сердито. – Я тебя не пытаю, чем артистов кормить и где новую лонжу заказать.
– Ты умный, тебе легче, – смиренно пробормотал Фрищенко и, хотя все уже было оговорено, продолжал: – Давай по новой, Капитан. Значит, начинаете вы в девятнадцать и первый номер у вас с лошадьми.
– «Амазонки». Примерно с шести в конюшне не протолкнись, а около того Ваньку видели живым.
– В семнадцать сорок пять, – уточнил Фрищенко. – Потом лошадей прибрали, вывели, и конюшня опустела.
– Ясное дело, конюх с помощниками идут к манежу, смотрят представление и принимают горячих, обтирают, ведут во двор, прогуливают.
– Ведут через конюшню, ворота запираются изнутри. – Майор обреченно вздохнул.
– Непременно запираются, иначе пацаны пролезут, спасенья нет. Я тебе говорил, и другого ты не услышишь: ворота заперты на все сто. После выступления их открывают лишь летом, сейчас нельзя, горячая лошадь простудится.
– Значит, после выступления в конюшне опять сутолока?
– Ну, какая сутолока? Лошади же не люди, чего им толкаться?
– А людей много?
– Только свои: конюх, помощники, девчонки заскочат любимца огладить, угостить, только их и видели. Любой посторонний тут будет торчать, словно памятник на площади.
– Вот-вот, согласен. – Фрищенко кивнул. – На памятник никто внимания не обращает: стоит, а может, убежал, глаз обвыкся, не видит. Кто может зайти в конюшню и не привлечь ничьего внимания?
– Уборщица, Сильвер, Классик, – начал загибать пальцы Колесников, подумав, сказал – Больше никто. Что прилип? Ясно же, Ивана в то время в конюшне не было, его нашли позднее и уже… – Он махнул рукой.
– И ты за последнее время новых людей на работу не брал?
– У меня цирк, а не проходной двор.
– Сколько же времени длится номер «Амазонки»? – спросил Фрищенко и сам же ответил – Около десяти минут. Ворота во двор были заперты, со стороны кулис стояли люди, въезжали и возвращались с манежа лошади. Никого нового ты на работу не брал. Значит, кто-то из твоих родимых сотрудников либо артистов… – Он поднял палец и повторил: —…либо артистов в эти десять минут и зарезал парня.
– Слушай, Сеня, не надо заправлять, – Колесников покрутил пальцем у виска, – я своих людей знаю лучше, чем собственную жопу, и за каждого могу ответить. Это тебя одни подонки окружают.
Фрищенко на злые слова земляка никакого внимания не обратил, даже кивнул согласно, но это относилось не к высказыванию Колесникова, а к мыслям майора Фрищенко.
– Днем у цирка видели иномарку с московскими номерами.
– Я для дочки нашей Аннушки – метлами у меня командует – в Москве лекарство заказывал. Человек приехал, передал, уехал, торопился, даже чай пить не стал.
– Понятно. – Фрищенко снова закивал и, чтобы не привлекать к полковнику внимания, спросил – А откуда журналист объявился?
– Из златоглавой, откуда еще. – Колесников дернул подбородком. – Не пойму, как он тут ночью объявился? Кто ему сказал?
– Я тебя не в сыщики вербую, не зову стучать на соратников. – Фрищенко тяжело поднялся. – Но ты, Леша, оглянись вокруг себя, вроде трахают тебя.
Колесников набрал в легкие воздуха, покраснел от натуги. Пока он выбирал слова покрепче, Фрищенко проскользнул мимо, распахнул дверь и объявил:
– Всем спать! Оперсоставу задержаться!
Глава 4
Бессонница
(продолжение)
На бывшей обкомовской даче, расположенной километрах в двадцати от города, в эту же ночь сидел за столом и читал газеты Кирилл Владимирович Трунин – человек молодой, но очень серьезный. Ему недавно исполнилось тридцать два, но по имени-отчеству Трунина называли уже несколько лет, сначала вроде бы шутливо. Довольно быстро привыкли и сверстники, которые в свои двадцать пять были для всех Сережки и Петьки, многие из них без упоминания отчества счастливо доживут и до шестидесяти. Они признали, что Кирилл Владимирович Трунин – человек иного замеса. На первый взгляд он не производил впечатления: среднего роста, фигурой непримечателен, одевается по усредненной моде, когда-то носил костюм, рубашку с галстуком, теперь в джинсовой одежде и куртке с «молниями», ничего броского, дорогого, глазу не зацепиться. Обычная советская семья, родители-инженеры, жили скромно, как все, от зарплаты до зарплаты. Трунин и школу, и юрфак университета окончил середнячком, как любили тогда выражаться: рядовой товарищ, обыкновенный советский человек. Но он родился лидером, очень быстро это осознал, легко подчинял сверстников, но уже в школе понял, что общество, в котором он живет, любит лишь серый цвет, средний рост, не умных, а хитрых, не способных, а приспосабливающихся. И тогда еще без отчества, просто Кирилл, Трунин запрятал свое лидерство глубоко внутрь, начал присматриваться к окружающим, в основном к людям, успешно продвигающимся вверх. Он быстро и без особого труда определил, что лестница, ведущая наверх, практически одна – комсомол, затем партия, далее со всеми остановками, сколько пролетов осилишь, так высоко и заберешься. Принцип подъема по этой лестнице, как он понял, был достаточно прост. Необходимо постоянно угождать вышестоящему, казаться не шибко умным, лишь сообразительным и очень расторопным, выжидать и либо подловить, когда шеф сам оступится, либо в нужный момент ножку подставить, сбросить вниз, быстренько занять место и громко кричать, как умен и неповторим проходимец, карабкающийся на пролет выше. Итак, еще в школе Кирилл Трунин сообразил, что лестница лишь одна и нечего изобретать велосипед; как и все, вступил в комсомол, стал секретарем, райком помог поступить в университет, где Кирилла уже ждали, тут же «избрали» комсоргом курса. А как же иначе. Разве без подсказки райкома собравшиеся в кучу девочки и мальчики с первого взгляда могут определить, кто есть кто? У ребят различные увлечения, спорт, бесконечные романы, гори этот комсомол голубым огнем: одни заседания да головная боль. И предложенная кандидатура всем понравилась: парням – тем, что на женском фронте не конкурент, девчонкам он импонировал своим спокойствием, простотой обращения, нос не задирал, ни за кем не ухлестывал.