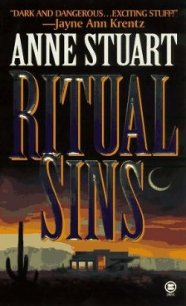Ритуальные услуги - Казаринов Василий Викторович (читать хорошую книгу .TXT) 📗
За то время, что мне пришлось грести в скорбном челне, ничего подобного видеть и слышать мне не приходилось.
— Ну-ну, — раздумчиво протянул Отар. — Дальше что?
Дальше — пункт второй. Впечатление каменности моего лица, вышедшего из-под опытной руки желтоголового визажиста в салоне для истинных джентльменов, имело под собой вполне устойчивое основание, причем не подсознательное, а сугубо предметное, материальное, фактурное: рассеянно проглядывая в нашей приемной притащенные Бэмби эскизы какого-то изящного памятника, я имел случай уже скользнуть по нему взглядом, слишком, видимо, мимолетным и рассеянным, чтобы отложить его в памяти, потому что мысли в тот момент были слишком заняты другими материями — то ли экзотикой городской жизни, то ли невеселым предчувствием мороки, связанной с цыганскими похоронами, то ли размышлениями о благостности жизни в психушке, где можно целыми днями рисовать пейзажи под чутким руководством Бэмби… Так или иначе, то мужское лицо — неясно, полутонами и потому очень изящно, без намека на типичную для посмертных портретов аляповатость, не то чтобы высеченное в сером камне, а вот именно из него плавно вытаивающее — было прописано в эскизах, и теперь я, напрягая память, вполне восстановил его черты. Восстановить бы его сразу — уже в тот момент, когда я после долгих массажно-макияжных процедур глянул на себя в зеркало, там, в салоне «Комильфо», из которого я вышел именно с тем самым лицом, что было прописано на благородном камне.
— Выходит, ты имел счастье оказаться на кого-то похожим?
Выходит, так, и бедный Боренька, перешептываясь с Мальвиной на пороге салона и то и дело постреливая в мою сторону характерным взглядом ваятеля, прикидывал про себя, удастся ли ему из грубого и неотесанного материала моей дремучей — еще бы, после отдыха в Казантипе! — физиономии восстановить черты и формы какого-то неведомого мне оригинала.
— Знаешь, напоследок он попросил меня надуть щеки.
— Надуть щеки? Зачем?
Наверное, с надутыми щеками я в полной мере отвечал чертам оригинала, облик которого был Бореньке конечно же хорошо знаком, — скорее всего, именно за это знание он и поплатился тем, что ему свернули шею в Строгино, как цыпленку, и сделал это, возможно, именно тот профессионал, из-за которого Отар носит теперь кромешно черные очки: «Ек-королек, как бы этот парень ласты не склеил!»
— Это ж надо быть такой дубиной, а, Отар?
Вместо ответа он плеснул мне в рюмку еще одну дозу.
Таким дубиной, чтобы дать себя обрядить в дорогом бутике ну в точности в тот наряд, какой описывал мне Малек, рассказывая о встрече на Лазурном берегу с мужем этой Валерии — таков этот стиль, просто, но дорого! — а потом точной его копией до ночи слоняться по разным публичным злачным местам, битком набитым ее знакомыми. Настолько точной, — уж Боря постарался! — что даже фейс-контроль в закрытом клубе никак не отозвался на мое появление в тесном проходном шлюзе напротив сканера, а Маль-вина, едва я миновал контроль, испустила вздох облегчения — настолько искренний, что перемена в ее напряженном, вздернутом настроении не ускользнула от моего расслабленного внимания.
— Она просто предъявляла меня обществу, понимаешь?
— Еще коньяка?
— Нет. Теперь хватит. И так все ясно.
Во всяком случае, то ясно, что разрывной каштан, чпокнувший в стекло как раз в тот момент, когда мы предавались любовным утехам на черной лестнице кабака, должен был улечься не в ее красивый лоб, как я подумал, а в мой, не слишком, наверное, красивый и уже проточенный глубокой бороздой морщины, разлетом изогнутых крыльев походившей на чайку, золотящуюся в мхатовском занавесе.
Оставался простой вопрос: зачем и почему?
— Слушай, Паша, это не жизнь, а просто сказка… Дорогие рестораны, роскошные женщины, любовные утехи на лестнице…
— О-фе-ли-я, — внятно и врастяжку вдруг произнес я.
— Ну, знаешь ли, — мягко улыбнулся Отар. — И шекспировские страсти туда же?
— Да нет. Просто в ее жилах течет немного армянской крови.
Я лишний раз поразился свойствам растительной памяти, механизм которой подвешен, точно на тонких путах паучьей паутины, на невесомых и смутных, почти невидимых нитях случайных ассоциаций: тот гневливый дядечка, что на пикнике издалека тыкал в меня пальцем, жарко полемизируя с Мальвиной, был армянином. И он походя бросил мне эту фразу: «Сегодня суббота. А в понедельник материалы аудиторской проверки лягут на стол шефа».
— Если я верно помню, по ходу любовных утех еще кто-то и каркал? — осторожно подал голос Отар. — Вороны?
Да нет, не вороны, а Люка, между делом обмолвившаяся, что — когда я истреблю себя в попытках вытравить из себя Голубку — она похоронит меня в баснословно дорогом гробу из канадского «птичьего глаза».
Я, собственно, и должен был бы покоиться в этом гробу — на месте кого-то, на меня похожего: по исконной природе, может быть, и отдаленно, но благодаря стараниям гримерных дел мастера сделавшегося похожим достаточно близко. Разрывная пуля в лоб сняла бы последние проблемы с этим маскарадом — мне снесло бы полголовы, так что хоронить пришлось бы в закрытом гробу, и лишь изящный портрет в камне надгробия напоминал бы о том, кто именно покоится под ним.
— Этому парню, роль которого я так старательно отыгрывал на людях, просто надо было исчезнуть. Безутешные друзья и коллеги проливали бы слезу на тот камень, под которым я занял его место, а он, скорее всего, тем временем уже загорал бы на каком-нибудь тропическом пляже.
— Лихая тебе досталась бабенка, Паша.
— Не то слово… Мне с этим всегда везет.
Я уложил ладони на стол и долго вглядывался в них.
— И к чему ты это? — тихо спросил Отар.
— К тому, что в руках моих еще, кажется, есть силы держать весло. Ладно, пока, Отар. Мне пора грести.
— Может, плюнуть тебе на эти дела? — Отар погладил темный патрон бутылки с таким видом, будто хотел тактильно разрешить те сомнения, что смутно отразились в его лице и смысл которых укладывался в простую дилемму: стоит еще выпить или нет.
— Не могу. Харон живет у реки.
В сумрачной прихожей я задержался, напоследок вбирая в себя те звуки, запахи и оттенки света, которые так прочно впитались в мои древесные ткани в те бесконечно от нас — теперешних, заскорузлых и утративших пышность кроны — далекие времена, когда мы были молоды, шумны, гибки, устойчивы к переменам климата, ветрам и стужам и оттого беспечны, наивно полагая, что все у нас еще впереди, и осели в них каким-то животворным соком, напоминавшим сладковатый вкус сока березового. И так я стоял, купаясь напоследок в сладковатом, густо-рыжем воздухе прежнего дома, все никак не находя в себе сил с ним расстаться, и отчетливо улавливал в его летучей материи слабые токи каких-то посторонних звуков и запахов.
— Ты что? — спросил Отар. — Что-то не так?
— Да нет, все так. Пока. Звони, если что.
Но что-то было в самом деле не так, инстинкт угадывал присутствие в доме еще кого-то, кроме нас двоих, ощущение это не имело отчетливых очертаний и лежало за пределами логики, доступной разуму, и скорее управлялось наитием, которое подсказывало мне, что именно за тень стояла все это время за нашими спинами и тихо дышала нам в затылок, — черт возьми, это была тень женщины! — и потому я, выехав из двора, обогнул дом по узкой пешеходной дорожке, чем вызвал гневное утробное клокотание в груди преклонного возраста женщины, прогуливавшей меланхоличного бассета с сократовским взглядом, а тот упорно тянул женщину к вытоптанному газону и добился-таки своего. Отцепленный с поводка, бассет, метя ушами пыль с асфальта, неловко пролез сквозь прутья низкой железной ограды, помотал головой и с деловым видом направился к стволу дерева, тщательно обнюхал его и, глядя в сторону, словно смущаясь своего намерения, задрал заднюю ногу, орошая ствол, по которому уже медленно восходил мой взгляд — туда, где в зелени кроны — чуть ниже Отарова окна — плутали промельки слишком хорошо знакомых по прежним временам цветов: салатовый, розовый, голубой.