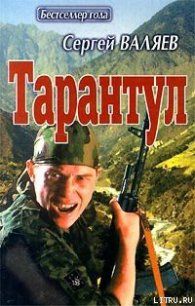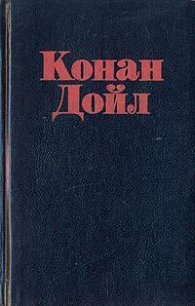Топ-модель - Валяев Сергей (книги .txt) 📗
— Я не хочу туда, — говорю, сдерживая слезы. — Я и так знаю, это Танечка.
— Прости, надо, — отвечает, объясняя, что маньяка надо искать резво, потому что у нас много другой работы.
— Какой работы?
— Оперативно-боевой.
Удивилась ли я? Почти нет. Хочу или нет, однако обстоятельства моей новой жизни складываются так, что скоро не буду принадлежать самой себе. А кому тогда? Не знаю.
Мечтала о праздничном чистом мире, а он оборачивается ко мне изнаночной стороной, и теперь мне видны грубые нитки интриг и разодранные швы зависти и ненависти. Мечтала быть красивой и счастливой, а меня рвет горькой желчью ужаса. Хотела чувствовать запахи солнечных духов, а вдыхаю испарения трупных разложений.
Мир оказался куда жестче и неприятнее, чем я могла только предположить. Разве можно быть счастливой в стране, где такое понятие, как счастье, выжгли каленным железом. Жить успешно среди неуспешных? Жить счастливо среди несчастных? Жить вечно среди мертвецов? Жить и понимать, что обречен на постоянный бой с больным обществом. Жить и знать, что раньше или позже тебя победят. Тогда как жить и зачем жить?
— Подъезжаем, — голос Стахова. — Ты как, Маша?
— Прекрасно, лучше не бывает, — огрызаюсь и вижу бесконечный бетонный забор, выкрашенный в неприятный цвет мочевины.
За этим забором — громадные казенные здания, обшарпанные, с множеством окон-ячеек, где замечаются безликие живые манекены.
Узрев некий пропуск на лобовом стекле джипа, охранник пропускает машину на территорию. Мы катим по дорожке, следуя указателям.
Небольшое одноэтажное кирпичное здание среди деревьев — это морг. Даже в такой жаркий день от него истекает холод — мертвый холод прошлого. Я же ежусь от будущего. Я не хочу такого стылого и страшного будущего. Однако оно наступает — оно есть, это проклятое будущее, превращаясь в немилосердное настоящее.
Видимо, в каждом из нас существует некий НЗ — неприкосновенный запас сил. Кажется, все, вымотан и смертельно устал, и нет никакой возможности жить дальше. И ничего подобного! Твой потенциал оказывается практически безграничным. И продолжаешь жить, и выполнять свои физические функции. Вот только душа саднит точно так, как в детстве ломит ссадина, затопленная йодом.
Я заставила себя выйти из чистой и прохладной, как море, машины в мир, измученный вспышками на солнце и безумными действиями людей, проживающими на шестой планете от этого дневного светила. Я вышла, чтобы заглотить кусок расплавленного воздуха. И этот кусок, подобно свинцу, обжег мою душу, а от хлада мертвецкой она невозможно сжалась…
И я почувствовала: моя душа закалилась, точно легированная сталь. И я почувствовала внутри себя эту звенящую сталь. И от этой звенящей и подлинной стали возникла сила, способная противостоять всему, что мешает нам жить достойно и счастливо.
Старенький, пьяненький и болтливый служитель мертвецкой, отвечающий за сохранность трупняков, как он выразился, встретил нас неприветливо, мол, не положено без соответствующих документов, да и обслуживающий персонал на обеде.
— Вот документы, дед, — Алекс тиснул сторожу ассигнацию цвета весенней американской лужайки, и все врата пред нами отворились.
Мы прошли по плохо освещенному коридору, где возникло впечатление: катакомбы.
— Подружка, небось, — слушала развязный хмельной голос. — Ой, нынче черт-те чё, я вам так скажу. Душегубство непотребное. Ранее порядок был, а сейчас порядка — йок! Та-а-к, неопознанные трупняки… это тута. Тута у нас морозильник. Вишь, какая дверь?
Металлическая дверь с крутящимся колесом по центру походила на сейфовую в банковское хранилище. С заметным усилием старик отвинтил колесо — из хранилища вышла морозная заснеженная зима. Сторож включил свет — и я увидела металлическую стену, состоящую как бы из ячеек. «Как в камере хранения», подумала.
— Вроде тута, — проговорил старичок. — Ежели, говорите, красивая? — И рывком выдвинул из «камеры хранения» стеллаж, на котором под стираной простыней со штампами угадывалось нечто, напоминающее человека. — Отворять, мил человек?
— Давай, отец, — сказал Стахов с обыденным выражением на лице.
До последней секунды надеялась, что произошла ошибка…
Я знала Танечку чуть-чуть, но она была живая, когда её знала, и видеть её под мерзлой простыней не хотелось. Если она там, значит, я тоже виновата — виновата в её смерти. Если бы не я — она бы жила, и жила бы как хотела. Бы-бы-бы — как тавро неотвратимой беды.
Это была Танечка. Грубый шрам вокруг тонкой хрупкой шеи доказывал: голова на самом деле была отделена от туловища. Окоченевшее мертвое лицо напоминало лик мертвого манекена. На ресничных веточках, как на лапах елей, искрились снежинки. Старичок прокомментировал:
— Молодая девка, а ужо отмучилась.
— Она? — спокойно вопросил Стахов.
— Да, — подтвердила и увидела: Танечка плачет, тщась открыть глаза.
Меня повело — менхантер удержал за локоть. И, будто поняв причину моего плохого состояния, объяснил: снежинки растаяли от разницы температуры.
Мертвая Танечка плакала, а не плакала, не могла плакать. Наверное, надо было плакать. Не плакала — стальная оболочка. Защищающая мою душу, не позволяла этого делать.
А мертвые плачут по нам, живым? Не так ли?
Потом я заново вернулась в жаркий день, похожий на пылающие печи крематория. Солнце прожигало крону деревьев и землю, утомленную без дождя но меня прожечь не могло. Озноб бил такой, будто в детстве, когда болела коклюшем.
— Выпей, — сказал Стахов. — Там, в бардачке, коньяк.
— Там пистолет.
— И коньяк.
— Я не люблю коньяк.
— Почему?
— Коньяк пахнет клопами.
— Это французский клопы, они самые лучшие, — усмехнулся человек за рулем авто, мчащегося в никуда. — Убедись сама, Маша.
Помедлила, потом все-таки открыла бардачок — там, за массивным пистолетом «Стечкиным», обнаружила плоскую фляжку. Вытянула её, отвинтила крышку — лекарственный горьковатый запах. Средство от жизненных драм и неурядиц?
— Она хотела в Париж, — вспоминаю. — Теперь Танечка туда не сможет поехать. Ее мечта…
— Париж ждет тебя, — прерывают меня. — Пей.
— Я никогда не пила коньяк, — признаюсь. — Ничего, кроме шампанского. Так, баловалась. Это был высший шик для нас, дивноморских, — хлебнув из фляжки, чувствую, как спиртовая настойка на французских клопах умеряет силу морозного холода в груди. — Кстати, — вспоминаю, — почему в Москве оказалась? Из-за шампанского. Да-да, — утвердительно киваю. — Это тот, которого я… ка-а-ак… йоп-чаги!.. весь в белом… угостил шампанским, а потом, и-и-иях!.. — сделала новый глоток.
— А как звали нашего героя? Арнольд, кажется?
— Арнольд. Представляешь? — усмехнулась. — Не имя — анекдот! И вся наша жизнь — анекдот. Ой, голова кружится, как на карусели.
— Наклюкалась, Маша?
— Какое смешное слово: на-клю-ка-лась?
— Поспи.
— Чтобы поспать, надо закрыть глаза.
— И что?
— Я боюсь закрывать глаза.
— Почему?
— Если закрою глаза, то умру, как Танечка.
— Прекрати!
— Она плакала, Танечка, — вспомнила. — Наверное, ей было больно.
— Спи.
— Это ведь больно, когда отрезают голову?
И не получила ответа: дневной мир неожиданно померк, будто надо мной выключили вечную лампочку. И я пропала из него, точно мне самой откромсали голову — откромсали кухонным резаком, удобным именно для этого дела.
4
Я сплю, и, видимо, от неловкости положения затекают руки. И мне кажется, что я, связанная, нахожусь в каком-то подозрительном помещение, напоминающие ординаторскую в больнице. Об этом утверждает неприятный запах болезней, кушетка с липкой клеенкой, металлический столик, ведро, переполненное использованными бинтами со следами старой ржавой крови. И я понимаю, что надо выручать себя, в противном случае…
На трубе отопления вижу заостренный выступ для крана. Раньше здесь был вентиль, потом его сняли. Хорошо, что его сняли… Заставляю себя осесть с кушетки. После нескольких безуспешных попыток удается зацепиться веревкой за этот спасительный вентильный выступ. После несколько минут напряжения свобода! Свобода?