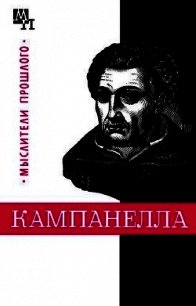Дело Томмазо Кампанелла - Соколов Глеб Станиславович (читаем полную версию книг бесплатно .txt) 📗
– Он не ценит ничего… Ничего, кроме своих бессмысленных и ужасных сиюминутных чувств! – потрясенно сказал Журнал «Театр». – Ради этих чувств, ради развития своих настроений он пойдет на все, что угодно!.. Вот уж, воистину, бедовый человек! От слова «беда».
– Да, он истинный революционер настроений! – заметил учитель Воркута.
– Давай, валяй, палец так палец! – мрачно проговорил Охапка, глядя на стоявших вокруг него людей. – Хрен с ним, с пальцем. И не такое теряли! Пропадали и хуже. Подумаешь, палец! Не хотелось, конечно, мне лишаться пальца, без него я работать не смогу по специальности, но раз кругом такая хреновая жизнь, то хрен с ними – и с работой, и со специальностью, и с пальцем!..
Он замахнулся, и тесак упал вниз. Пальца по крайнюю фалангу – как не бывало. Брызнула кровища.
Охапка уронил тесак на пол и как-то тоскливо-тоскливо на одной ноте заныл, впрочем, не очень громко: «А-а-а…»
Журнал «Театр» стошнило.
– Мерзость!.. Какая мерзость! Отвращение! Отвращение! – запричитала женщина-шут. – Уберите этого мерзкого Охапку отсюда! Прогоните их всех вон! – продолжала она все громче и громче. – Этот Охапка – не человек!
Между тем Охапка со вздувшимися на шее венами, с глазами, затуманенными болью заговорил:
– За спины не прятались, ни за чьи спины не прятались! Воевали честно! – опять было совершенно невозможно понять, если, конечно, не знать из того, что рассказал дедок, что это все происходило не с самим Охапкой. – Ни за кого не прятались! Что-что, а страх мы сразу порастеряли. Мы сразу без страха остались. Его как будто и не было, страха этого. И теперь так же, теперь так же надо… Мы точно… Я так скажу, за Родину надо драться, за Родину. За березки родные можно и горло перегрызть. А вот это, вот это, вот всякой жестокости – этого мы не признаем. Колька мне говорил, рассказывал мне Колька – был там у них один, настоящий садист. Он на войну специально попросился… – тут Охапка явственно стал бледнеть, так что это стало заметно даже в полусумраке хориновского зальчика.
– А парень-то – с душой! – произнес Жак и, достав из кармана какую-то грязную тряпицу, служившую ему, видимо, для сморкания, ловким образом перетянул Охапке покалеченный палец.
– Смотри, сиди тихо теперь, а то Жора-Людоед тебя накажет! Он сегодня не в настроении, – припугнул Охапку Жак. – Совиньи, что в Лефортово жил, ты знал?
Многие хориновцы в этот момент встрепенулись.
– Да-а!.. Знал! Я все Лефортово знаю. А Совиньи знаю отлично! – кажется, даже и теперь похвастался Охапка.
– Так вот смотри, чтобы с тобой Жора-Людоед не сделал того же, что он недавно сделал в шашлычной с этим самым Совиньи, которого ты так хорошо знал, – прищурившись, сказал Охапке Жак.
Жора-Людоед тем временем внимательно и совершенно не стесняясь рассматривал находившихся в зальчике самодеятельных артистов, которые давно уже были ни живы ни мертвы от страха. Под стулом лежал медвежий тесак, а на стуле – отсеченная и неживая, какая-то вся сморщенная фаланга Охапкиного пальца.
Произошедшее было настолько просто и настолько «в общем-то ничего не случилось с Охапкой», как потом скажет один из участников самодеятельного театра, видевший всю сцену с отрубанием пальца, что хориновцы не могли вымолвить ни слова.
Потом тот же самый хориновец, что видел всю сцену, скажет еще, что «усекновение пальца внешне выглядело очень просто и внешне совсем ничего особенного не произошло ни во время, ни после него, даже Охапка, кажется, пережил это не тяжелее, чем как если бы ему, скажем, вырвали зуб, но в головах и настроениях участников самодеятельного театра происходило что-то такое ужасное, нечто такое необъяснимое, даже мрачное, тяжелое, невероятное, что потом они не могли непрерывно не возвращаться мыслями к этому отпечатавшемуся в памяти навечно эпизоду. А Жора-Людоед оставался спокоен. На то он и Людоед!»
Как раз в этот момент Жора-Людоед заметил, что в сумраке за разломанным стендом Музея молодежи прежних лет кто-то прячется, но рассмотреть прятавшегося он никак не мог и потому вытянул шею…
– А что сделал Жора-Людоед с Совиньи? – спросил Охапка, баюкая здоровой рукой раненную. Его опьянение постепенно проходило, и он все сильнее начинал чувствовать боль.
Как бы неуютно ни чувствовали себя в этот момент артисты самодеятельного театра, а и они с жгучим любопытством уставились теперь на Жака.
– Он заживо сварил его голову в масле для чебуреков! – спокойно произнес тот.
– Вы врете! Вон стоит Совиньи, цел и невредим! – истерично воскликнул Журнал «Театр».
На этот раз вздрогнул уже Жора-Людоед, который так и не смог рассмотреть, кто же прячется за разломанным музейным стендом.
В следующее мгновение Совиньи наконец-то покинул свое укрытие и сам вышел навстречу Жоре-Людоеду.
– Да, вот он! – удовлетворенно проговорил Журнал «Театр».
– Здравствуй, Совиньи! – шагнул ему навстречу Охапка.
– Я тебя не знаю, – сухо сказал Совиньи, даже не посмотрев в Охапкину сторону, и тот сразу стушевался. Взгляд Совиньи тем временем сверлил Жору-Людоеда.
– Ну что, дружок… Один в вашей троице уже без пальца, а двое других – все еще с пальцами. Непорядок!.. – угрожающе проговорил Совиньи. – Впрочем, отрубить вам пальцы будет мало. Я вам еще глаза повыкалываю!
В следующую секунду Жак, выхватив из кармана короткий нож с выскакивавшим при нажатии кнопки блестящим лезвием, бросился на Совиньи, но отброшенный кулаком великана, точно механическим молотом, отлетел в сторону, с грохотом опрокинув набок сразу несколько стульев, стоявших в хориновском зрительном зале, и остался лежать недвижим. Блестящий нож его отлетел на несколько метров в сторону, куда-то под музейные стенды, где его уже не было видно.
Совиньи остановился, по-прежнему глядя на Жору-Людоеда. Все молчали, молчание странным образом слишком затягивалось. Казалось, никто не знает, что теперь лучше всего сказать.
Жак некоторое время лежал, не подавая признаков жизни. Наконец он поднял голову и, посмотрев на Совиньи мутным, бессмысленным взглядом, с трудом приподнялся и сел на полу прямо.
– Сейчас я тебя убью! – проговорил Жак, но Совиньи даже не обратил на него внимания, и Жак с исказившимся лицом обхватил голову руками, словно пытаясь унять какую-то чудовищную боль, что накатила на него в этот момент.
– Свойства моего характера не таковы, чтобы я просто стоял за музейным стендом и не попытался поиграть на таких странных струнах, которые всюду здесь через весь зал этого маленького театра протянуты, – страх, трусость, чувство здравого смысла, которое есть у других людей, и чувство пользы, которое тоже у них имеется. Какая глупость! Какая это была бы глупость – быть в таком вот зале театра с моими-то данными, с моим-то скелетом, с моими-то сросшимися ребрами, которые придают всей конструкции особенную, ни с чем не сравнимую жесткость и силу, с моей-то безжалостностью – и не сыграть на чужой трусости да слабости?! На том, что у кого-то чисто физически отсутствуют некие данные, которые могут обеспечить возможность борьбы с Совиньи?! – проговорил Совиньи о себе в третьем лице. Добавил, глядя на Жору-Людоеда:
– И ты, язва, сейчас мне дорого за все заплатишь! Сейчас от тебя и мокрого места не останется, хоть ты и силен, и горд! Много я таких, как ты, зверюг в бараний рог скрутил. Сейчас я тебя при всех в бараний рог скручу!.. И после все будут рассказывать, и в газетах напишут, как в такой-то день, в зале самодеятельного театра, закатилась слава Жоры-Людоеда, потому что Совиньи растоптал его… У меня сегодня такое настроение замечательное: свой характер, свои исключительные свойства всем показать! Сегодня необыкновенный день, самый важный день в моей жизни. Рубежный день, день, которого я ждал всю жизнь. Сегодня я буду возведен на царство и как лев стоит среди зверей царем, так и я стану царем среди человеков!.. Таков я – Совиньи, великий и необыкновенный! Человек со сросшимися ребрами!.. Ты нужен мне, Жора-Людоед, мне давно нужен был такой противник, как ты!..