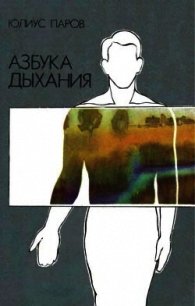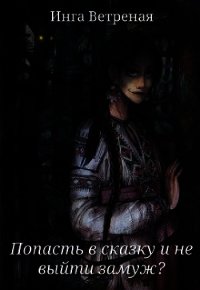Канал Грез - Бэнкс Иэн М. (прочитать книгу TXT) 📗
Струна «ля» немного спустилась; она подстроила ее в соответствии с остальными, закрыв глаза и прислушиваясь. Процесс настройки всегда вызывал у нее визуальную картинку: звуки мысленно представлялись ей в виде сплошной вибрирующей цветовой ленты; столб в воздухе, меняющий свою окраску, как масляное пятно на воде, но всегда цельный и плотный. Если какой-то оттенок был размазан и вылезал за край, как цвет на плохо отпечатанной фотографии, его надо было сфокусировать, вернуть на место. Виолончель, передавая ей свою дрожь, пела; цветной столб перед ее глазами был яркий и четкий.
Она проверила настройку, сыграв несколько этюдов, и убедилась, что ее пальцы не настолько потеряли гибкость, как она опасалась.
Она снова открыла глаза. – Это… Тан Лой, «Прощальная песня», – объявила она лампам.
Никакой реакции. Это нельзя было считать классической музыкой, и она подумала, что, может быть, ее застенчивый захватчик будет возражать против современной пьесы, но сидящий за лампами jefe ничего не сказал. Возможно, ему нечего было сказать по незнанию, а может быть, он знал эту пьесу и был согласен с ее выбором; это была вещь в стиле «классического модерна», одно из мелодических сочинений fin de siecle, [39] появившихся как реакция на математическую сухость атональной музыки.
Она склонилась к инструменту и с первым широким движением смычка медленно закрыла глаза; пьеса пела о пробуждении женщины и наступлении дня.
В техническом отношении это произведение было довольно непритязательным, но то эмоциональное содержание, которое требовало от исполнителя выжимать из музыки все, что она может дать, делало его трудным для исполнения, потому что тут легко было впасть в небрежность или, наоборот, в излишнюю вычурность. Хисако и сама не могла бы объяснить, почему выбрала именно эту пьесу; вот уже несколько месяцев, с того дня, как отправилась в путешествие, Хисако репетировала ее, и та богато и красиво звучала в сольном варианте, но то же самое можно было сказать и про другие пьесы, а в отношении этой она почему-то все еще сомневалась, что выразила все, что в ней было заложено.
Она отбросила эти мысли, забыла о лампах и темном силуэте за ними, и о пистолете у Сукре на поясе, и о людях, попавших в ловушку и страдающих на «Надии», она просто играла, погружаясь в бархатные глубины надежды и грусти, о которых пела музыка.
Когда пьеса закончилась и последние звуки музыки растворились в воздухе, в ее пальцах, в старинном инструменте, она немного посидела с закрытыми глазами, все еще оставаясь в алой пещере сердечной тоски по утраченному счастью. Под закрытыми веками перед нею проплывали, пульсируя в такт толчкам ее крови, странные видения. Казалось, что музыка подчинила себе их движение, навязав им свою тему, и вот теперь они медленно высвобождались, возвращаясь в родной полухаос. Она следила за ними.
Хлоп-хлоп-хлоп. Внезапный звук аплодисментов подействовал на нее как толчок. Она распахнула глаза. В лучах света промелькнули белые хлопающие ладоши, прежде чем скрыться во мраке. Фигура наклонилась в ту сторону, где стоял Сукре, и тот тоже захлопал. Сукре энергично закивал головой, взглядывая то на нее, то на человека, сидевшего рядом.
Хлоп-хлоп. Хлоп. Аплодисменты начали стихать, смолкли.
Хисако сидела и щурилась на свет.
Сукре наклонился к сидящему соседу.
– Великолепно! – сказал он, выпрямляясь.
– Благодарю вас.
Она расслабилась, позволила кончику смычка коснуться ковра. Потребует ли он еще? Сукре склонился опять, затем сказал:
– Сеньорита, отвернитесь, пожалуйста. Лицом туда.
Она оцепенела от неожиданности. Затем повернулась, неуклюже перетаскивая за собой виолончель, и, пересев по-новому, стала глядеть на дверь, которая вела в коридор.
«Зачем? – подумала она. – Уж не затем ли, чтобы меня расстрелять? Неужели я играла для них, а затем покорно выполнила последнюю команду, которая позволит им с большей легкостью убить меня?» Краем глаза она уловила сзади яркую вспышку и окаменела.
– Все, – сказал Сукре. – Теперь обернитесь.
Она повернулась, не вставая, вместе с виолончелью. За лампами мерцал красный огонек зажженной сигары. В лучах света плавало облачко дыма, еще больше затрудняя видимость. Она почувствовала запах серы.
– Jefe хочет знать, о чем вы думали, когда играли эту пьесу, – проговорил Сукре.
Она задумалась, чувствуя, как наморщила лоб и как ее взгляд в поисках ответа устремился прочь от света во тьму.
– Я вспоминала о… о разлуке. О разлуке с Японией. О расставании… – Какое-то мгновение она колебалась, но потом решила, что притворяться нет смысла. – Думала о расставании с теми, кто остался на корабле, на «Надии». – Она хотела сказать «с одним человеком», но что-то удержало, прежде чем она успела это выговорить, хотя понимала, что Сукре все знает про Филиппа. «Даже такими мелкими, жалкими словесными уловками мы стараемся защитить тех, кого любим», – подумала она и взглянула на яркий свет. – Я думала о расставании с жизнью; что мне в последний раз выпала возможность сыграть на виолончели. – Она выпрямилась на своем стуле. – Вот о чем я думала.
Она услышала, как человек за лампами перевел дыхание. Возможно, он кивнул головой. Сукре подтащил стул и сел рядом с невидимкой.
– Jefe хочет знать, что ты думаешь о нас. Можно было подумать, что с ней говорит одна из ламп.
– О венсеристах?
– Si. [40]
Она задумалась о том, как будет правильнее ответить на этот вопрос. Но ведь они догадаются, что она хотела ответить правильно, так какой же толк стараться? Она пожала плечами и опустила взгляд на виолончель, перебирая струны.
– Не знаю. Я не очень знаю, за что вы боретесь.
– За свободу жителей Панамы, – раздалось после небольшой паузы. – А в конечном счете и за Великую Колумбию. За то, чтобы обрезать те веревочки, за которые дергают янки.
– Ну что ж, возможно, это и хорошо, – сказала она, не поднимая взгляда. На другом конце стола стояла тишина. На мгновение ярко вспыхнул огонек сигары. – Я не политик, – сказала она. – Я – музыкант. Во всяком случае, это не моя борьба. Извините, – она подняла взгляд. – Просто мы все хотим выбраться отсюда живыми.
Огонек сигары склонился к Сукре. Она услышала низкий голос, мутноватый, как будто впитавший, проходя к ней через облако голубого дыма, и некоторые его особенности.
– Но ведь янки заставили вас открыть вашу страну, не так ли? В тысяча восемьсот пятьдесят четвертом американский флот заставил вас начать торговать. – Она скорее почувствовала, что Сукре ближе наклонился к говорящему человеку, снова услышала его бормотание. – А затем, неполных сто лет спустя, они сбросили на вас атомную бомбу.
Сигарный огонек сместился вбок, она с трудом различала его в лучах левой лампы и представила себе невидимо сидящего в кресле человека, одной рукой облокотившегося на подлокотник.
– Ну? – спросил Сукре.
– Да, все так и было, – сказала она. – Мы… – Она с трудом подбирала слова, чтобы описать полтора столетия беспримерно радикальных перемен, которые пережила за это время Япония. – В нашей изоляции была сила, но так не могло продолжаться вечно. Когда нас… вынудили измениться, мы изменились и нашли новые силы… или новую форму прежних. Мы перестарались; мы хотели стать похожими на другие народы; вести себя так же, как они. Мы разгромили Китай и Россию, и мир был поражен этим и поражен тем, как мы хорошо обходились с пленными… затем мы стали… наверное, слишком заносчивы и решили, что можем потягаться с Америкой и вести себя… с иностранными дьяволами так, словно не считаем их за людей. В ответ к нам стали относиться точно так же. Они были не правы, но и мы тоже. Потом у нас началось процветание. Нам есть о чем скорбеть, но… – Она опять вздохнула, посмотрела на струны, расположила на них пальцы, представляя, что берет аккорд. – …Нам не приходится жаловаться.
39
Конца века (фр.).
40
Да (исп.).