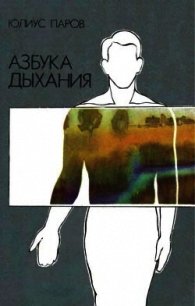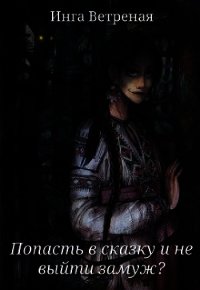Канал Грез - Бэнкс Иэн М. (прочитать книгу TXT) 📗
Хисако проснулась и поняла, что Филипп трясет ее за плечо. В ногах у нее стоял Сукре и со скучающим видом толкал их носком ботинка.
В одной руке у него был большой нож, в другой – футляр с виолончелью. Ее глаза расширились; она приподнялась и села. Сукре положил нож в ножны и взвесил на руке свой автомат. Пластиковая веревка, соединяющая ее с Филиппом, была разрезана; она была свободна. Сукре кивнул в сторону двери: – Ну, пошли! Идем на концерт.
Глава 8
КОНКИСТАДОРЫ

Тот же «ле-серклевский» катамаран, на котором они с Филиппом отправлялись в свои подводные вылазки, отвез ее на «Накодо». Сквозь рваные облака на воду падал яркий солнечный свет, она прижимала к себе футляр с виолончелью, и от запаха этой кожи ей стало как-то уютнее. Сукре сидел на носу, лицом к ней; Хисако видела в воде темные отражения футляра, самой себя и венсериста у подвесного мотора. На лице Сукре играла улыбочка, все ее вопросы о том, зачем они с виолончелью едут на «Накодо», он оставил без ответа. Всю дорогу он держал ее под прицелом своего «калашникова». Хисако прикинула, что будет, если она запустит в него футляром с виолончелью. Защитит ли он ее от пули? Вряд ли. Автоматная очередь, скорее всего, прошьет катамаран, возможно, зацепит и сидящего на корме венсериста, но для нее шанс остаться в живых невелик.
Она все же представила себе, как швыряет в него футляр и следом прыгает сама, как Сукре почему-то промахивается, а она вырывает у него автомат, вероятно, сталкивая его в воду (хотя непонятно, как это сделать, не потеряв автомата, ремень которого перекинут у него через плечо?), значит, она просто бьет Сукре по голове, он падает без сознания, она хватает его автомат и успевает повернуться и открыть огонь, прежде чем боевик на корме успеет схватить свой и нажать курок… Да, именно так. И тогда она уплывет с тонущего катамарана, используя футляр с виолончелью как спасательный плот, а потом освободит остальных или сообщит о случившемся всему миру, и все будет замечательно. Она напряженно сглотнула, как бы поглощая эти безумные мысли без остатка. Ее сердце забилось сильнее, громко стуча о футляр виолончели.
Она спросила себя, часто ли другим людям случалось попадать в подобные ситуации, когда ты не знаешь, что с тобой произойдет, а ты весь полон отчаянной надежды и безнадежного отчаяния и выполняешь то, что велят твои захватчики, молишься, чтобы все закончилось без кровопролития, тешишь себя жалкой и такой человеческой верой в то, что ничего ужасного с тобой случиться не может.
Сколько людей, разбуженных на рассвете стуком в дверь, ушли, быть может, протестуя, но все же – покорно ушли, чтобы встретить свою смерть? Возможно, они уходили так тихо из страха за свои семьи; скорее всего, они думали – то, что с ними происходит, это какая-то страшная, но ошибка. Знай они тогда, что их семьи тоже обречены, что сами уже бесповоротно осуждены на смерть, что им осталось несколько часов, а затем будет пуля в затылок, или, прежде чем они умрут безвестной смертью, их ждут годы, а то и десятки лет рабского труда и страданий в лагерях, то они бы, может, еще решились оказать сопротивление в самом начале, когда еще был шанс спастись, несмотря на то, что эта попытка могла ни к чему не привести. Но, насколько она знала, сопротивлялись лишь очень немногие. Надежда – эндемична, а реальность порой чревата отчаянием.
Как можно поверить, даже очутившись в вагоне для скота, что нация, которая считалась самой цивилизованной в мире, вознамерилась забрать вас – всех до единого, целый эшелон – и, раздев догола, отобрав и отсортировав протезы, очки, одежду, парики и украшения, отправить на фабрику смерти, чтобы отравить газом, а затем выдрать золотые зубы из вашего черепа? Как? Это может быть ночным кошмаром, но никак не реальностью. Это было слишком ужасно, чтобы быть правдой; даже люди, веками подвергавшиеся суеверным преследованиям, с трудом, наверное, могли поверить, что такое может происходить на Западе в двадцатом столетии.
И вот какой-нибудь доктор (или инженер, или политик, или рабочий в Москве, или в Киеве, или в Ленинграде) поднимается с кровати от стука в дверь, не зная того, что в глазах государства он уже мертв; и кто может осудить его за то, что он ушел тихо и спокойно, всем своим поведением стараясь ради спасения жены и детей (что, может быть, ему и удалось) подчеркнуть свою законопослушность? Удивительно ли, что нервничающий и в то же время убежденный в своей невиновности – так как знает, что не сделал ничего плохого, всегда поддерживал партию, ее великого вождя, – он тихо собирает чемоданчик, целует заплаканную жену и обещает скоро вернуться?
Кампучийцы поначалу покидали город, веря, что в этом есть своя извращенная логика, и думая, что это как-то задобрит людей из джунглей. Разве могли они знать, разве могли всерьез поверить, что очки на носу навлекут на них удары железными прутьями, которые их вдребезги разобьют, смешают с грязью?
Даже зная, что произойдет, ты, наверное, все же надеешься или просто не можешь поверить, что это на самом деле произойдет с тобой (в свое время) в Чили, в Аргентине, в Никарагуа, в Эль-Сальвадоре… в Панаме.
Она оторвала взгляд от своего отражения в воде и перевела его на ухмыляющееся лицо Сукре. Далекий берег утопал в зелени. Может быть, помощь придет оттуда. Может быть, попытка Оррика в каком-то смысле окажется не напрасной; кто-нибудь на берегу мог услышать выстрелы и взрывы, когда его убивали. Придет Национальная гвардия, и венсеристы сбегут, оставив заложников живыми; ведь это же просто глупо убивать еще кого-то, правда? Международный скандал, шумиха, возмущение общественности, возмездие.
Она крепче прижала к себе футляр, чувствуя, что вся дрожит. Прямоугольный корпус «Накодо» заслонил все небо, закрыв собой солнце.
Она последовала за Сукре по трапу, ведущему на борт, все еще держа футляр с виолончелью перед собой. Очередной венсерист встретил их и провел в помещение. Хисако очутилась в кают-компании. Занавески были опущены; на дальнем конце стола кают-компании горели две лампы, направленные в ее сторону. Она смутно разглядела темный силуэт сидящего человека. Примерно в полуметре от другого конца стола она увидела перед собой приготовленный для нее стул. Сукре жестом приказал ей сесть, а сам подошел к темному, плохо различимому силуэту. Хисако сощурила глаза, пытаясь разглядеть фигуру напротив. Лампы на гибком шарнире светили ей прямо в лицо. Работающий в помещении кондиционер снова вызвал у нее дрожь, заставив пожалеть, что она не надела что-нибудь более существенное, чем просто юката.
– Мисс Онода, – раздался из-за ламп голос Сукре. Она заслонилась от света ладонью. – Jefe [38] хочет, чтобы вы что-нибудь сыграли для него.
Она не пошевелилась. Воцарилась тишина. Наконец она спросила:
– И что же он хочет услышать?
Она видела, как Сукре наклонился к сидящему человеку, потом снова выпрямился:
Что угодно, по вашему усмотрению.
Она подумала над его словами. Даже спросить, есть ли у нее выбор, казалось бессмысленным. Можно попросить, чтобы ей принесли ее ноты, и тем самым оттянуть время, но она не видела в этом особенного смысла. Лучше уж сделать то, что от нее хотят, чтобы поскорее вернуться к Филиппу и остальным. Гадать о том, кто сидит, спрятавшись за лампами, и почему он скрывает свое лицо, казалось также бессмысленным. Она вздохнула, открыла футляр, вынула виолончель и смычок и отложила футляр в сторону.
– Мне потребуется некоторое время, чтобы настроить ее, – сказала она, подгоняя штырь под свое невысокое сиденье, затем притянула виолончель к себе, почувствовала ее между коленей, прижалась к ней грудью и шеей.
– Пожалуйста, – сказал Сукре, и она провела смычком по струнам.
38
Jefe (исп.) – шеф, начальник.