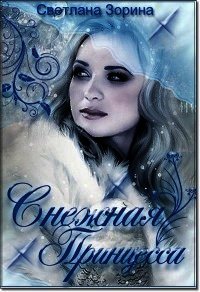Настоящая принцесса и Снежная Осень - Егорушкина Александра (читать книги .TXT) 📗
— А попить ещё можно?
— Тут душно!
— Тут холодно!
А потом кто-то из них подал голос, что пора перерыв сделать, а Саблезубая рявкнула и перерывы сократила, и в буфет больше никого но пускала, и велела никому на часы и смотреть не сметь, а то отберет.
У Лизы ноты прыгали в глазах, от темных фигурок на фоне темно-красного занавеса голова болела ещё больше, замученные, напряженные лица оркестрантов маячили бледными пятнами, а время мчалось, как пейзаж за окном электрички.
Пик. Пик. Пииик.
Флейтистка Женя уронила курчавую голову на пюпитр и безудержно зарыдала.
— Я больше не могу-у-у! — всхлипывала она.
Все. Приехали, тупо подумала Лиза. Самой впору зареветь. В носу отчаянно защипало, но она велела себе держаться. Сквозь стеклянный потолок сочился грязноватый серый свет, но плесень на стенах почти его затмевала.
Дальше пошло по цепочке: захлюпали носами успокоившиеся было малыши около Паулины, потом заплакал ещё кто-то из девочек-оркестранток, и еще, и еще. Яна плакала аккуратно, шепотом. Мальчики и могучая Василиса держались, но явно из последних сил. Печальный кларнетист Яша, похожий на глазастого [/кирафенка], хлопал ресницами и судорожно переглатывал. Кто-то — кажется, Маша — тоненько заскулил: «Хочу домой, хочу к маме».
Саблезубая призывала всех успокоиться, но перерыв объявлять и не думала.
Ах вот, значит, как! Лиза неуклюже спрыгнула со сцены и начала аккуратно укладывать черную скрипку и черный смычок в черный футляр.
— Ты что это, Кудрявцева? — возмутилась Ульяна Сергеевна и строго постучала по подлокотнику карандашом. — Дети! Прекратите!
Лиза даже не оглянулась — она вихрем пронеслась через зал и вылетела за дверь, чувствуя между лопаток пристальный взгляд непонятной Марго.
В темном вестибюле она всхлипнула — все равно никто не видит, даже шары эти, гнилушки болотные, не горят. Потом яростно вытерла нос кулаком и двинулась по коридору. Вот сейчас и проверим, как я дорогу в изморинское логово запомнила, с мрачной решимостью подумала она.
Глава 10,


У него было самое лучшее на свете детство. Отец, который вернулся с фронта невредимым, пил чай из диковинной синей с белыми узорами чашки, найденной — так он рассказывал — на развалинах города, когда-то называвшегося Кенигсберг, Королевская Гора.
А у мальчика было детство с морем и солеными брызгами в лицо, и с военными кораблями, и с Балтийской косой до самого горизонта, просвистанной ветром, с горячим белым песком и сладкой дикой смородиной, бункерами, дотами, развалинами форта, аэродромом, на который ещё надо было уметь пробраться, и с темными кусочками янтаря в хлюпавших под ногами водорослях, и с играми в войну. И ему казалось, будто ничего лучше и не бывает, рассказывал Смуров. Он старался говорить шепотом, хотя ему уже объяснили, что маленькая кругленькая женщина в кресле спит очень крепко и её не то что громким: голосом — пушками не разбудишь. Хотя при этом на неё все время выжидательно косились и шторы не раздергивали тоже вроде бы из-за неё.
А потом мальчик увидел тот альбом — огромный, с упоительно пахнущими страницами, о края которых можно было запросто порезать палец, как об осоку в дюнах. Вот что странно, качал головой Смуров, у него начисто вылетело из головы, кому этот альбом принадлежал — кому- то из сослуживцев отца? — да и репродукции в нем никак не восстановить в памяти, хотя, хотелось бы, теперь-то он музейщик и мог бы… наверно, Дрезденская галерея, да-да, очень похоже на то. Но зато он помнит, как переворачивал тяжелые листы с непонятными немецкими подписями, и на каждом словно открывалось окошко в какой-то совсем другой мир, странный, загадочный, да и был ли он на самом деле…
Там с картин смотрели мужчины и женщины в удивительных нарядах, с какими-то нездешними лицами; на мощеных улочках, под черепичными крышами, на шахматных плитчатых полах торговали невиданным товаром, дрались на шпагах, танцевали сложные танцы — жили какой-то особенной, ни на что не похожей жизнью. И ещё там змейками убегали вдаль, в зеленые холмы, узкие дороги, а по ним катились запряженные осликами тележки, а на горизонте вставали высокие башни замка. И ещё были там грозные и прекрасные люди с крыльями, и какие-то удивительные полузвери-полуптицы, и высокий солдат в железных доспехах пронзал копьем длинного извилистого дракона! выползавшего из темной пещеры. Мальчик спросил отца — а у нас такое есть? Да, ответил тот, в Эрмитаже, в Ленинграде.
Мальчик долго потом ходил сам не свой и пробовал на вкус волшебное, таинственное слово «эррррмиташшш» — оно перекатывалось и шелестело, как прибой. Он почему-то твердо решил — вырасту, будут работать там, где много таких картин. В Эр-ми-та-же.
Правда, в Ленинград он попал уже студентом, И уже знал, что устроиться на работу в Эрмитаж не легче, чем добыть Кощееву смерть. Но Смуров отступаться не собирался. Он выучился на искусствоведа, работал себе в Калининграде, тихо писал статьи, когда мог — приезжал в Ленинград на конференции, затаив дыхание, ходил по бескрайним эрмитажным залам. Залы были похожи на тихие озера, окруженные золотым осенним лесом. Он навещал свои любимые полотна. Он уже знал всю постоянную экспозицию наизусть. Ему уже казалось, он может пройти с закрытыми глазами от парадного входа до Эрмитажного театра. Мимохожие экскурсанты частенько принимали его за местного сотрудника, спрашивали, как найти Рыцарский зал, импрессионистов, зал «Павлина», — Смуров отвечал важно и подробно, но при этом все поглядывал в сторону: в парадных зеркалах и паркетах отражался какой-то другой Смуров, который был здесь на своем месте, словно всегда тут и работал. Илья Ильич завидовал отражению и, привычно ссутулясь, спускался по мраморному леднику Иорданской лестницы, выходил на набережную, уставясь себе под ноги. Кроме Эрмитажа его в этом городе мало что интересовало. Даже белые ночи.
Рыжий Иннокентий — или как его там, Инго? — явно удивился, но смолчал. Ну, значит, ему не понять, мельком подумал Смуров.
А потом в один прекрасный день к нему заявились эти двое, один вроде бы москвич, а второй из Новгорода, что ли… нет, из Киева. Как они его разыскали, непонятно. Смуров тогда был уже женат и Маргошке как раз четыре годика исполнилось, она в соседней комнате диньдинькала на подаренном ксилофоне. Да, они пришли прямо домой и завели какой-то разговор о сотрудничестве — мол, не хочет ли он перебраться в Петербург, а они бы ему помогли устроиться в Эрмитаж, да-да, они все знают, динь-динь-динь, и рекомендации будут, и ровно две смуровские публикации окажутся гениальными, и даже испытательный срок можно сократить, зачем ему, Илье Ильичу Смурову, такелажником работать, с больным-то сердцем — видите, мы все о вас знаем, дилинь-динь-динь, один из гостей встал и беззвучно прикрыл дверь. Смуров было испугался, что эти двое — бандиты или ещё кто похуже, и решил не связываться, Маргошка ведь… но отказаться сразу у него духу не хватило, а они наседали, уговаривали. И тогда он рискнул спросить — зачем я вам, сдался.
— А дальше начался полный бред! — Смуров от волнения повысил голос и тут же, оглянувшись на спящую, прикрыл рот ладонью.
Гости заявили — им, мол, надо, чтобы он срочно стал хранителем в Петербурге. «Я и так хранитель, — растерялся Смуров. — Музейщик, хранитель фондов, только здесь — в краеведческом музее». Нет-нет, сказали гости, и понесли что-то про хранителей городов, Гильдию, посвящение, миссию, какую-то фантастическую детективную околесицу, так что…
Рыжий Инго глубоко вздохнул, но промолчал, только руки на остром колене сплел. Смуров покосился на него и продолжал.
…так что он, Смуров, нормальный взрослый человек, эти сказки даже и слушать не стал — слишком подозрительно они звучали. «Что ж, тогда попробуем второй вариант», — сказал один гость другому, и они удалились, и Смуров ещё десять лет прослужил в калининградском городском музее и все так же безнадежно тосковал по Эрмитажу. И только он решил, что в Питер больше ни за что не поедет, незачем расстраиваться, как вдруг пришло это письмо. На бланке Эрмитажа и на адрес местного музея, в котором работал Смуров, что само по себе большая честь простому смертному.