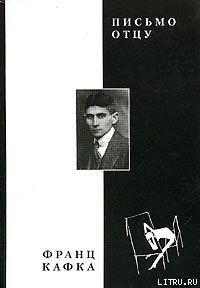Письмо на желтую подводную лодку(Детские истории о Тиллиме Папалексиеве) - Корнев Владимир Григорьевич
Заслуженная учительница чуть не задохнулась в праведном гневе. Пока она переводила дыхание, поднял руку Тиллим.
— Папалексиев? — удивилась Вера Павловна, скептически посмотрев на него через толстенные линзы очков. — Ты можешь меня дополнить? Ну же!
— Не только дополню, но и, простите, возражу. Футуристы не были полуобразованны. Мне удалось прочитать, что это было заметное явление в поэзии, — начал Тиллим, о котором весь класс знал, что он сам сочиняет и всерьез увлекается поэзией. — «Пушкин наше все» — слова Аполлона Григорьева, критический реализм тоже не жаловавшего. И, в-третьих, первым непочтительно выразился о Пушкине совсем не футурист, а как раз критик-демократ — Писарев! Мало того, что он, сам по убеждениям нигилист, все отрицал, как у них было принято, и был заключен в Петропавловскую крепость за государственную измену (это есть в Большой советской энциклопедии), так он еще и заявил, что «легкомысленное» творчество Пушкина «следует сдать в архив»! Саму эстетику призывал разрушить, Поэзию, можно сказать, отрицал! По-моему, такое заявление — самое настоящее кощунство! Назвать себя верующим не могу, но пример Писарева заставляет меня подумать о существовании высшей справедливости: он ведь нелепо погиб — утонул на мелководье! Вы, разумеется, обо всем этом знаете. Извините, что напомнил.
Опытная учительница покраснела, устыдившись своего прокола с Григорьевым, но ответила:
— Конечно знаю! Только не тебе, мальчишке, осуждать Писарева! — Она апеллировала ко всему классу: — Нет, вы посмотрите, что тут сидит… Мальчик мой, он писал о Пушкине, не оскорбляя его память, а вот футуристы-то…
— Кстати! — вспомнил Тиллим. — Везде ведь указано, кем был величайший поэт советской эпохи Владимир Владимирович Маяковский. Так что, по-моему, футуриста Маяковского вы напрасно задели…
Тут Вера Павловна по привычке так саданула указкой по столу, что все замерли, предвкушая, как та переломится, однако треснул стол — указка была стальной, а стол из ДСП.
— Я не посмотрю на твою эрудицию! Всякому… юнцу пятнать имя ГЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ?! Не позволю!!! Он решительно порвал с футуризмом. Еще на рабфаке я сама слышала, как он читал… Это плевок в душу лично мне! Откуда ты узнал, что Маяковский — мой любимый поэт?!
Весь класс прыснул со смеху: небольшой гипсовый бюст Маяковского всегда стоял на подоконнике рядом с рабочим столом учительницы, так что каждый ученик, бывая дежурным, не раз стирал с него пыль.
— Тиллим, остановись, не надо! — тихо попросила Оля. Однако начинающий поэт не мог не высказаться в защиту своей подруги.
— Еще два слова! По теме. Разве мы ценим классическую литературу не за высокие идеалы, прекрасные образы, за подлинную правоту авторов? Вот это и делает ее современной. Оля, на мой взгляд, затронула самое больное место критического реализма — его разрушительный заряд, а также, увы, лицемерие и непоследовательность авторов. Тот же Пушкин писал:
А критический реализм не мог глаз оторвать от этой грязной суеты, совсем почти забыв о красоте!
Вспомните, кстати, сколько у Пушкина уничтожающих по отношению к критике и толпе стихов…
Этого вполне достаточно, чтобы, по крайней мере, не считать критический реализм с его грубостью высшей степенью достижения искусства… Оля искренне возмутилась тем, о чем у нас говорить не принято, и уже за смелость достойна самой высокой оценки! А вы, Вера Павловна, простите, по-моему, просто боитесь, что хоть кто-то из ваших учеников научится самостоятельно мыслить!
— Трепать мои и без того расшатанные нервы… Дурдом на колесиках!!! Очень полезно уметь включать дурака, Папалексиев, главное — чтобы выключатель не сломался… Я почти шестьдесят лет в школе, а такой наглости еще не слышала! Ну, учтите: меня трудно вывести из себя, но загнать обратно еще сложней. — Старушка возвела очи к потолку, взывая, очевидно, к Богу, в которого не верила. Ее седые, испорченные химией волосы встали дыбом. — Опять за свое? Развелось акселератов! Голова вместо попы и руки, растущие из нее, — самая распространенная мутация на Земле. Семиклассники уже позволяют себе «сметь свое суждение иметь»! Убеждения надо выстрадать, а не вычитывать в учеб… Ой! Я что-то не то говорю…
Седьмой «А» понимал, что сейчас Вера Напалмовна действительно противоречит сама себе, но та из последних сил продолжала бороться с малолетней оппозицией:
— Папалексиев, ты тоже добился двойки в четверти, и в году больше, чем на тройку, не… не рассчитывай! Видно, счастье до вас со Штукарь будет долго идти… потому что оно огромное — ему очень тяжело идти быстро. Вон из класса — оба!!! Второй раз… вам с рук не сойдет… Идеологическая диверсия!.. Я доведу до сведения… Таким ученикам не место в нашей… нашей образцовой школе!
Учительница достала из кармана валидол и дрожащими скрюченными пальцами положила под язык. Вот когда весь класс испугался — довели!!! Оле с Тиллимом было уже не до дискуссий — они, не сговариваясь, ринулись в медпункт…
Даже закаленное как сталь партийное сердце Веры Павловны подобной диверсии не выдержало, и она с инфарктом угодила в больницу, впрочем, настроение самостоятельно мыслящих дважды двоечников ухудшилось не меньше, чем здоровье престарелой учительницы. Тиллим и Оля ничего дурного, конечно, не замышляли и такой печальный итог литературного диспута в своем подростковом максимализме предполагать вряд ли могли. Теперь-то им было страшно и за пострадавшую старушку, и за собственное будущее. Становилось понятно, что Штукарь и Паралексиеву ни о каком Кавказе не следует и мечтать — представлять челябинскую пионерию в ответственной поездке они не достойны. Во-вторых (это было самым опасным), если Вера Павловна сдержит слово и не смилостивится, педсовет будет вынужден рассматривать случившееся с ее политической позиции как намеренную травлю заслуженного педагога, ветерана партии и советской школы со стороны двух «идеологически незрелых» юнцов, и тогда исключение из «образцовой спецшколы» обоим обеспечено. То немногое, что давало Тиллиму с Олей шансы на благоприятный выход из столь неблагоприятной ситуации: заветное желание школьного руководства поскорее отправить строптивую, ставшую на старости лет просто невыносимой Веру Павловну на давно заслуженный почетный отдых, высокая репутация учеников, «подающих большие надежды», да и стремление сохранить безупречную репутацию самой школы…
Следующего занятия по литературе весь класс ждал с особым волнением (мало кто осуждал Папалексиева и Штукарь — было жаль только, что спор о сочинении привел к ухудшению здоровья литераторши), а Оля с Тиллимом, чувствовавшие все-таки некоторую вину, — просто с замиранием сердца. Когда выяснилось, что урок не отменен, ученики 7-го «А» терялись в догадках, кто же заменит «сушеную кобру» Напалмовну. Вошедшая в класс молодая блондинка в брючном костюме сливового цвета уже одним своим видом заставила поднять головы и замереть не только мальчиков, но и девочек.
— Здравствуйте, друзья мои! — спокойным, уверенным и в то же время доброжелательным тоном поприветствовала учеников дама. — Меня зовут Ирина Юрьевна. Я ваша новая учительница русского языка и литературы, хотя мне было бы приятнее, если бы вы называли мой предмет словесностью. Наш первый урок будет посвящен творчеству удивительного поэта и прозаика, яркого романтика, Михаила Юрьевича Лермонтова. Но для начала хотелось бы поближе с вами познакомиться. Давайте поступим так: каждый назовет себя, а потом скажет нам, что для него Лермонтов…
В воздухе почувствовалось свежее дуновение, как будто повеяло весной, хотя за окном стоял морозный февраль.
— Нет, ты слышал? Поздравляю! — прошептала Оля, взволнованно задев Тиллима локотком. — Конец змеиному царству! Думаю, больше никто не будет затыкать нам рот штампованными формулировками.