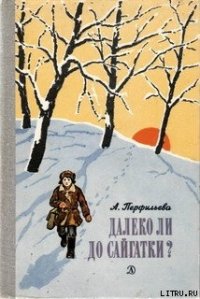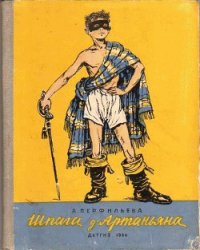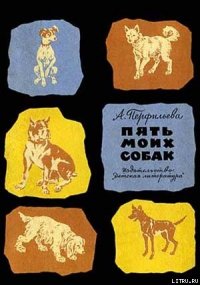Во что бы то ни стало - Перфильева Анастасия Витальевна (книги полностью .txt) 📗
— Что, не узнал? Ничего… Иди сюда, ближе!
Иван Степанович выпростал из-под одеяла ссохшуюся большую руку, привлек мальчика. Жадно и долго смотрел на его родное испуганное лицо, круглую вихрастую голову.
— Ох, вы какой… стали! — шептал Алешка, прижимаясь лбом к шершавому одеялу.
— Страшон? Ничего… Рассказывай. Про все, слышишь?
И Алешка, торопясь, стараясь отвлечь, успокоить и успокоиться сам, перескакивая с предмета на предмет, начал рассказывать. А глаза глядели, верили и не верили и тоже против воли прятались от глубоких и необыкновенных глаз Ивана Степановича.
— Иван Степанович, нас сперва двадцать было в спальне, теперь двадцать семь… И еще привезут. Домище здоровый, комнат много, заблудишься… Внизу штук шесть и зало.
— Зачем?
— Физическая культура. И на брусьях, и прыгаем…
— Еды… вволю?
— Вволю. Ребята в переплетной работают, а я в столярную записался. Мастер ходит, показывает. Ругается, если кто не понимает!
— Армавир… помнишь?
— Я б туда хоть сейчас! С вами…
— Это ты брось. Детского дома держись, понял?
Алешка кивал и снова спешил говорить, рассказывать.
И о том, как ходили на Красную площадь, и еще в музей, а там половина заколочена и холодюга страшный, и о том, что в огороде девчонки посадили фасоль, а ее кто-то за ночь выкопал, и о старой библиотеке, и о Ваське с царскими деньгами, и о том, что они будут дружить…
По тому, как следил за ним Иван Степанович своим странным глубоким взглядом, Алешка видел, он слушает внимательно, но думает о своем.
Сгущались сумерки. В палате стало прохладнее, вечернее солнце ушло из окна. Иван Степанович затих, видно, устал. Заглянула сестра, сказала:
— Мальчик, пора уходить. Больному нужен покой.
Иван Степанович нетерпеливо пошевелил пальцами.
Поднялся, попросил пить. Алешка подал. Попив, долго лежал молча. Алешка не мог, не смел оторвать его от мыслей. Наконец Иван Степанович спросил:
— Старая та… Кузьминишной зовут… с вами?
Мальчик встрепенулся.
— С нами. А вот девчонки ее — помните? — с ними чего-то… Я к вам собирался, хватились — нету их нигде, Ленки с Диной! И еще одной, новой. Бабушка плачет, говорит, глаза проглядела. С обеда как сгинули, уже все ищут…
— Найдутся! Ты, Алеша, помни: детского дома держись. Слышишь?
— Я буду.
— Хорошо. А теперь ступай. Пора.
Он откинулся на подушку. Поманил к себе мальчика. Притянув, стиснул горячими ладонями стриженую милую голову. Сказал твердо и ясно:
— Прощай, Алеша, друг мой, сынок! У тебя большая жизнь будет. Иди! — и вдруг оттолкнул его сильно, а большие руки спокойно легли на серое одеяло.
Алешка минуту постоял не шевелясь. Иван Степанович дышал ровно, глубоко, как будто засыпал. И лицо было ясное.
Снова в палату заглянула сестра. Позвала шепотом:
— Уходишь?
И Алешка ушел. Но долго еще не покидало его тревожное ощущение, что Иван Степанович, прощаясь, хотел сказать ему, но не сказал что-то очень важное.
Снова захлопнулась тяжелая бесшумная дверь госпиталя. И мальчик очутился на людной, полной скрытого движения и шума, слабо освещенной газовыми фонарями привокзальной площади.
Андрей Николаевич хорошо объяснил, как возвращаться обратно. От площади прямо, никуда не сворачивая, мимо того сквера, где встретила их, когда приехали из Армавира, Марья Антоновна с грузовиком. После уже знакомыми улицами и переулками к дому.
Алешка не боится ничуть. Он и не подозревает, что его возвращения ждут с нетерпением не только Андрей Николаевич, но и Марья Антоновна с Кузьминишной. Впервые такое длинное, чуть не через весь город, путешествие доверено воспитаннику самостоятельно.
Стемнело совсем. Но привокзальная площадь шумит даже сильнее. Безудержно движется, ползет людской поток: навьюченные мешками и котомками приезжие, красноармейцы в буденовках и шинелях, торопливые горожане… Истошно кричит где-то паровоз, трясется по булыжнику извозчичья пролетка, ржет лошадь.
Все не покидает Алешку унесенное из госпиталя чувство тревоги. Чего не договорил ему Иван Степанович? Почему так грустно и строго смотрели его глаза, хотя ничего грустного Алешка не рассказывал, наоборот — больше про веселое? Разве только, что исчезли куда-то Динка с Леной и эта, новенькая? Ну, ерунда… Но настойчивый печальный взгляд как будто провожает мальчика.
Алешка видит большие башенные часы над вокзалом. Они не идут, но освещены, одинокий огонек трепещет в окне башни. Стрелки раскинуты, как руки, показывают не то без десяти два, не то десять минут одиннадцатого.
Алешка уже огибает площадь, как вдруг замечает перед собой в толпе пешеходов странно знакомую маленькую фигуру: стриженая худенькая девочка в детдомовском платье, изо всех сил работая локтями, пробивает себе дорогу. Или это чудится? Нет, вот опять… Она спешит, исчезает, появляется…
В несколько прыжков Алешка почти нагоняет девочку. Острые мальчишеские глаза видят: озираясь по сторонам, вместе с чужими спинами и узлами к большому зданию вокзала упрямо движется Лена. Да, Лена!
— Ленка, постой! Ленка, ты?..
Голос его тонет, близко грохочет и дребезжит повозка. Девочка почти бежит вдоль высокого забора, останавливается у фонаря, ныряет в подворотню. Высовывается, пропадает снова… Еще минута, и Алешка тут же.
Никого. Темно. Пусто.
Уже не раздумывая, в предчувствии беды, Алешка тоже лезет в подворотню. Какие-то ящики, ступеньки… Грязь, подсолнечная лузга, пахнет соломой, конским навозом. Наконец он понимает: это проходной двор к тому же вокзалу, только с другой его стороны. Впереди чернеют теплушки, платформы, это Сортировочная… Больно ударяет брошенный на путь костыль. Народу никого, точно это заброшенный пустырь. Алешка бежит, ничего не видя, — фонарей нет. А может, девочка скрылась совсем не сюда? Он напряженно смотрит. И вот за темной будкой угадывает на земле жалкий, скорчившийся комок.
— Ленка!..
Молчание.
— Ленка! Да Ленка же! Ты?
Наконец слабое, сдавленное:
— Алешечка…
— Чего ты здесь? Зачем?
— Алешечка…
— Сейчас говори! Сейчас говори!
Он трясет ее худенькое плечо.
Девочка не может ответить, слезы перехватили горло. Потом едва слышно:
— Я за Динкой!.. Ногу ушибла…
— За Динкой?
— Они еще вчера… с этой, новенькой… убежали!
— Куда? Говори сейчас! Где Динка?
— Не знаю. Я ее… целый день караулила. Сперва одежду сменять, после сюда… На вокзал, называется Рязанский… у подворотни фонарь…
— Где Динка?
— Я их видела, видела! Сюда пролезли, я за ними, а их нету! Нету! Пусть Динка домой!..
— Не реви ты! Слышишь?
Девочку бьет, как в лихорадке.
— Вставай!
Лена встает.
— Идем.
— Динку искать?

Маленькая рука в его руке. Такая слабая, никудышная… Идут, спотыкаясь, по шпалам, шаря вокруг глазами. Останавливаются и опять идут, перескакивая через рельсы, которые множатся, как во сне. И вдруг грозный, точно выстрел, окрик:
— Куда претесь, шпанята? Не видите — стрелка?
Охнув, Лена бессильно падает. Алешка как можно спокойнее:
— Дядечка, это мы, дядечка…
— Какой я тебе дядечка, туды растуды!
Лохматая, озаренная светом ручного фонаря фигурища. Фонарь качается, и человек — как леший: страшный, черный, в кровавых бликах.
— Дядечка, мы ищем…
— Я вам поищу! Двух сейчас забрали, и вас заберут. Ах, так растак!
Он свистит пронзительно в темноту. Где-то сбоку, возле желто-красного костра, копошатся черные тени.
Алешка находит в себе мужество спросить:
— Кого забрали? Не девчонок двух?
— А мне забота? Мало вас тут, паскудников, шляется… И все, скажи, под вагонами! Медом они, что ли, помазаны?
Голос уже не такой грубый, просто раздраженный. Но громадная, клешней, рука цепко ухватила обоих, толкает перед собой. Лена давно уже сомлела от страха.