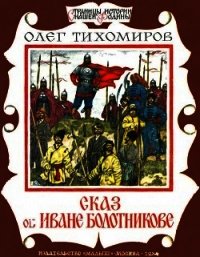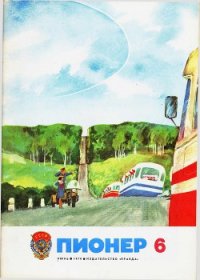Зеленое окно - Тихомиров Олег Николаевич (бесплатные версии книг .TXT) 📗

— В порядке нарисовано, а? — сказал Виталька.
— Не могу здесь стоять, — проговорила Таня. — Я пойду дальше.
— Иди, иди, — великодушно разрешил Виталька. — Мы тебя догоним. Это не для женских глаз. Нет, подожди. А почему картина под стеклом, знаешь?
— Нет, — сказала Таня.
— А ты? — спросил он у меня.
— Может, чтобы краска не осыпалась, — предположил я.
— «Краска»! — засмеялся Виталька. — Во дает!.. Это чтобы ее порезать не могли.
— Порезать? — спросила Таня.
— Ну да. Ее уже раз резали.
— Кто? — спросил я.
— Пьяный, — сказал Виталька. — Вжик, вжик ножом.
— Не пьяный, — вмешалась какая-то тетенька, — а душевнобольной. И веселого в этом ничего нет.
Мы отошли. Я только взглянул еще раз на картину издали. В глаза бросились ярко-зеленые сапожки царевича. Они были единственным как бы живым пятном. Единственным. Но от этого все остальные краски казались еще более мрачными и зловещими.
У других картин в этом зале мы долго не останавливались, потому что Виталька опять принялся нас торопить. Но вот мы оказались возле картины, на которой был нарисован мужчина в мятом халате, с всклокоченными волосами и красным носом.
— Ага! — радостно сказал Виталька и, чтобы удостовериться, подошел и прочитал табличку на раме. — Он самый!
— Кто? — спросила Таня.
— Мусоргский. — И, повернувшись ко мне, добавил: — Был такой великий композитор.
— Угу, — кивнул я.
— Писал всякие симфонии, а потом вот в больницу попал, — пояснил нам Виталька.
Я смотрел на великого композитора и чувствовал себя уничтоженным: Виталька знал все. Даже такие подробности.
— Симфоний он, по-моему, не писал, — сказала Тани.
Я вздохнул с некоторым облегчением, но Виталька тут же отрезал:
— Неважно! Главное, что Репин нарисовал его за два дня до смерти.
Опять! Так и сыплет!
— Ладно, идемте дальше, — сказал Виталька и пошел.
Пошли и мы с Таней. И снова смешались в кучу и замелькали в глазах полотна, висевшие на стенах.
— Погоди, посмотрим «Бурлаков», — предложила Таня, мы как раз проходили мимо этой картины.
Я подумал, что Виталька сейчас еще что-нибудь выдаст, но он поморщил лоб и проговорил:
— Чего интересного? Идут и тянут. Вот и все. Мне захотелось поддержать Таню.
— Нет, давайте посмотрим, — сказал я. Виталька остановился с нами, сунул руки в карманы, взглянул несколько раз на картину, а затем отвернулся, начал скучающе озираться по сторонам.
— Бедные люди, — проговорила Таня, разглядывая бурлаков.
Как же я хотел сообщить ей тоже что-нибудь такое, удивительное! Но и ничего не знал, поэтому лишь произнес:
— Ага.
Я подумал, что Виталька тут же воспользуется этим обстоятельством и скажет нам, чью посудину тянет несчастная ватага или что вон тот длинны и бурлак с трубкой в зубах первым свалился от голода, а потом уже все остальные.
Но Виталька промолчал. Почему бы? Странно.
Следующей картиной, возле которой мы оборвали свой бег по залам, была картина Крамского «Неутешное горе». На ней была женщина в черном, она сжимала у рта носовой платок и смотрела куда-то вниз, в угол, заплаканными глазами, слева была дверь в другую комнату. Там, напорное, горели свечи, потому что на полу у двери отражался неровный желтовато-красный свет.
— Это художник свою жену нарисовал, — пояснил нам Виталька. — У них ребенок умер.
— Послушай, — сказала Таня, — почему ты такие картины выбираешь?
— Какие?
— Ну такие… страшные?
Виталька вначале замялся, а потом, улыбнувшись, сказал:
— Кому страшные, кому нет, правда, Эдька? — И тут же добавил: — Чего бояться: это все давно было. Потопали?
Мы двинулись дальше. Несколько раз мне хотелось получше рассмотреть какие-то картины, да и Таня, я заметил, тоже замедляла кое-где свой шаг, но Виталька был непреклонен.
— Идем, идем! Еще не то будет, — говорил он. Куда он нас вел? Зачем?
И тут я догадался: а не подводит ли нас Виталька только к тем картинам, о которых он успел уже что-то узнать?
— Стоп! — сказал вдруг наш экскурсовод. Мы очутились перед огромной картиной, которая называлась «Утро стрелецкой казни».
Здесь было все понятно. О стрельцах и Петре Первом, который с ними расправился в конце концов, я читал.
Хоть мне и было известно про казнь стрельцов, но представить себе такой картины я никогда бы не смог. Поразило прежде всего их прощание со своими родственниками. Конечно, рассмотрел я хорошенько и Петра, который, гневно выпучив глазищи, сидел верхом на лошади. Но главное — старухи, дети и молодые женщины. Множество их собралось здесь на площади. Даже показалось мне, что я услышал гул толпы, и чьи-то вопли, и детский плач.
— А виселицы видишь? — толкнул меня локтем Виталька. — Вон у самой стены.
— Ну?
— Вначале там Суриков повешенного нарисовал, а потом замазал.
Ну вот — так и есть! Для этого мы сюда и подошли.
И все же я не удержался и спросил:
— Почему замазал?
— Чтоб люди в обморок не падали, — живо ответил Виталька. — А то его служанка, как увидела это дело, от страха брык с катушек.
— Словечки! — заметила женщина, оказавшаяся рядом с нами. — Послушаешь, уши вянут.
— Ладно, пошли, — сказал я.
— Куда? — удивился Виталька, увидев, что мы с Таней сделали несколько шагов в сторону.
Может быть, он удивился потому, что уже привык командовать парадом, а тут вдруг принимают решение без него. А может, удивительной ему показалась наша поспешность: то, мол, просили его остановиться, задержаться у каких-то картин, а теперь зачем-то сами торопят.
Но не ошибся ли я? Может, он вовсе не удивился, а просто не успел нам что-то рассказать про служанку, которая свалилась с катушек.
Как бы там ни было, но все же мы отправились смотреть другие картины.
Виталька больше ничего нам не рассказывал. Наверное, обиделся. Хотя нет: если б обиделся, не был бы оживлен и весел. Просто, я думаю, кончились все его сведения.
Теперь он взялся отпускать шуточки насчет того, что мужчина на этом портрете похож на математика Петра Ивановича, если б Петру Ивановичу прилепить усы; а толстощекий мальчик с соседней картины — родной брат, даже близнец нашего Димана; а вот та графиня как две капли воды похожа на продавщицу газировки, которая стоит на углу возле булочной, только повязать бы эту графиню косынкой, надеть белый, с сиропными пятнами халат и устроить ей черную родинку возле носа.
Иногда Виталька подмечал все очень верно, и Таня смеялась, а я сдерживался, чтобы, как говорят, не подливать масла в огонь, хотя действительно было смешно. А Виталька разводил этот огонь, пыжился изо всех сил.
Манерное, я завидовал ему. Да, завидовал. Я, если б знал, тоже выкладывал бы Тане всякие истории про художником. Конечно, я бы мог острить, что такой-то похож на такого-то. И Таня бы тоже смеялась. Но первый придумал это Виталька, а не я.
И вот мы очутились в зале, где на целой стене не было никаких портретов и вообще не было привлекательных картин, а кисели одни лишь пейзажи.
— Здесь смотреть нечего, — сказал Виталька, — идем в другой зал.
А я вдруг заметил знакомую картину, на которой была нарисована неширокая, усыпанная листьями дорожка, протянувшаяся среди желтых липок, и по этой пустынной дорожке шла женщина в темной одежде.
«И. И. Левитан. Осенний день. Сокольники», — прочитал я на табличке. И я хорошо вспомнил тот вечер, когда мы сидели за столом с дядей Васей и он угостил меня крепким чаем, а потом показал свою мастерскую, и там я увидел Танин силуэт на фоне зеленого окна и еще увидел репродукции Левитана.
Я задумался о той потребности, про которую услышал тогда от дяди Васи. Он сказал, что она есть у каждого — ~ потребность в Левитане, Моцарте, Чехове. У каждого…
— Ну, идем, что ли? — проговорил Виталька.
— Эдик, мы уходим, — присоединилась к нему Таня.