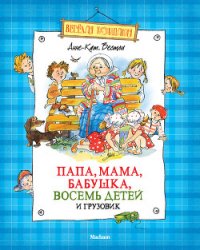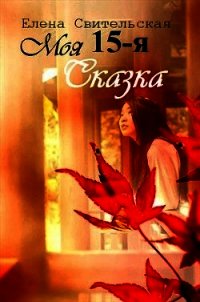Уезжающие и остающиеся (сборник) - Басова Евгения Владимировна (версия книг txt) 📗
– В общем, считай, что нет его, – сочувственно говорит мама.
– Ну почему же? – возражает учительница. – А письма? Он мог бы влиять на Сашку… в письмах! Наставлять его, как-то контролировать. Но этого нет…
– Понятно, – кивает мама. – Начнёт учить, Сашка скажет: а сам-то? На себя погляди!
– Что вы, не скажет, – говорит учительница. – Они же ещё маленькие!
Учительница волнуется, что её не понимают. Одёргивает на себе пиджак. Мне кажется, её стесняют строгий пиджак и юбка. Она ждёт не дождётся, когда сбросит их, как я – гимназическую форму. А я-то думала, что она станет кричать на нас. Мне делается стыдно за свои предположения.
– «А сам-то?» – так дети могут говорить… – учительница смотрит на меня, – ну, может, с седьмого класса. А маленьким всегда нужен папа, они рады любому… И ведь Сашка тоже мог бы поддерживать его – своими письмами. Я бы заботилась, чтоб Сашка отвечал… Я столько раз писала об этом и Игорю Андреевичу, и в администрацию колонии…
– Но вам не отвечают, – догадывается мама.
– Отвечают, – машет рукой учительница. – Но только так, чтоб что-нибудь ответить. Как будто им всё равно…
Мы обещаем ей, что, как только встретим Сашку, мы обязательно уговорим его вернуться в школу. По пути домой я думаю, как это она сказала: детям нужен папа, какой бы он ни был. Я спрашиваю:
– Мама, а наш папа какой был?
Мама отвечает:
– Хороший был, я же говорила.
– Нет, а работал он кем? – спрашиваю.
Мама говорит:
– Пока завод не закрыли – мастером работал на заводе.
Вечером тётя Анжела заходит к нам. Сразу понятно – у неё всё в порядке. Она как будто в белой шапочке. Блондинистые волосы уложены крупными кудрями, как будто тёте Анжеле наклеили на голову парик Деда Мороза. Тётя Анжела не ходит на работу, она может хоть каждый день с утра пораньше отправляться в парикмахерскую. А мама каждое утро хвост завяжет – и вперёд. И нет ничего красивее длинного хвоста, болтающегося по маминой спине.
Тётя Анжела смотрит снисходительно, как всегда, когда побывает в парикмахерской.
– Мы с Косачихой решили, – говорит, – надо поставить в подъезде домофон.
Мама спать хочет.
– Зачем? – спрашивает, зевая. Рот прикрывает ладошкой, на ладошке голубая краска. Не отмывается.
Тётя Анжела пожимает плечами:
– Зачем ставят домофон? Чтобы подъезд, конечно, был закрыт. А то повадился к нам ночевать этот… Николаша.
– Но его вроде сейчас нет… – возражает мама, а тётя Анжела, не слыша её, продолжает:
– И Косачиха говорит – в своём хозяйстве уже троих котов недосчиталась. Или четырёх. Ругается всё.
Мама спрашивает:
– Так что, подъезд закроем, чтобы её коты не разбежались?
Тётя Анжела понимает, что сказала глупость. За Косачихой вообще глупо повторять. Но отступать не хочется.
– И дочери моей на стенке пишут всякую ерунду, – неохотно говорит тётя Анжела. – Ведь кто-то ходит сюда, а?
И она глядит на маму так, точно мама скажет сейчас, кто сюда ходит.
Мама молчит, тётя Анжела жалуется на свою Наташу:
– Совсем неуправляемая стала. Как же – появился неизвестный воздыхатель! Спрашиваешь, почему полы не вымыты, – дерзит…
Она машет рукой.
– В общем, с тебя… Вот, здесь написано… – она протягивает маме листочек в клетку. – Мы с Косачихой подсчитали. Уже во всех квартирах были, собираем деньги…
Мама отодвигает листок:
– Я не смогу…
– Не сразу! – убеждает её тётя Анжела. – А пока денег нет, я за тебя внесу. Расплатишься с получки. Мой не против, чтобы за тебя внести.
«Мой» – это она про дядю Гену.
Мама говорит:
– Анжела, нет, ты не поняла. Я не смогу с получки расплатиться. У меня денег всегда в обрез. Получила – значит, за квартиру, за гимназию надо заплатить…
– Светка, я правда не понимаю тебя, – говорит тётя Анжела. – Вы нищие, и всё же у тебя дети учатся в гимназии. Среди богатеньких сынков, которые по заграницам разъезжают. У меня только одна Наташка, и мужик мой зарабатывает нормально, а я ведь её туда не поведу. Сколько ты в месяц платишь, а?
Мама говорит:
– А это уже, Анжела, тебя не касается.
В гимназии Кира Ильинична, наша англичанка, теперь только об Англии и говорит. Мы с Мухиным и ещё тройка-четвёрка одноклассников не понимаем, что мы-то здесь делаем. Всем остальным втолковывают, что в Англии надо ходить по струнке. Как гимназисты в старые времена.
– А то ведь прошлая группа ездила, – негодует Кира Ильинична, – так они всю Трафальгарскую площадь семечками заплевали! Тоже ещё – элита…
Волей-неволей, а посочувствуешь одноклассникам. Ну что она кричит? Они, что ли, плевались семечками?
– Не слушай её, – говорит мне Мухин на перемене, – на самом деле элита – это не они, а мы.
– Как это – мы? – спрашиваю.
Мухин объясняет:
– Меня взяли сюда, потому что я умный.
Он так спокойно, просто говорит: «Я умный». Никакого хвастовства. Летом трава зелёная. Но скоро уже зима. Сейчас под ногами хлябь. Небо вверху, а не внизу. А он – умный. Всё это – факты.
– И ты умная, – говорит Мухин. – А ещё брат у тебя… Это… Составил славу гимназии. Я стенд видел.
– Миша? – киваю я.
– Ну, да. Значит, у вас это семейное. У тебя гены. Я-то про свои гены не знаю. Мамка у меня продавщица, на хозяина работает. А про отца она молчит. Но сам я умный, видно же. Не были бы мы умные, разве нас приняли бы сюда?
Тоже ещё спросил!
– Конечно, нет, – говорю.
– Так что это не они, это мы – элита, – объявляет Мухин. – Не думай, мы ещё будем с тобой в Англии.
Он так и говорит: «Мы с тобой».
А я про Англию и не думаю. Я на уроке английского думаю про словесность. Про то, как мы читали про Алексея, человека Божьего.
Семнадцать лет он прожил в родном доме, а никто и не узнал его. Как было его узнать, когда он был вроде Николаши. Может, Николаша уже умер? Сашка ведь говорил – он мается животом.
Я мотаю головой, но мысли не отгоняются. Им хоть бы что. Зато Кира Ильинична окликает меня:
– Пудякина!
И потом снова:
– Пудякина, к тебе же обращаюсь!
Я Пудякина Валентина Николаевна. Мой папа, пока не пропал, работал на заводе. Он был мастером. «Не может, не может быть», – уговариваю я себя. Но уже поздно себя уговаривать. Николаша может быть моим отцом – всё совпадает.
В классе горит яркий свет, он делается всё ярче. Головы моих соучеников отбрасывают тёмные тени. От Киры Ильиничны тоже падает чёрная тень, она взмахивает руками, и тени начинают кружиться – быстрей, быстрей, быстрей. И сквозь эту пляску пытается прорваться металлический голос Киры Ильиничны:
– Проверим, как дела у наших аутсайдеров. Они не едут – им тем более важно заниматься дома! Пудякина совсем завяла…
И сразу же я слышу, как она говорит:
– Совсем, совсем завяла. Это голодный обморок…
– Они что, впроголодь живут? – спрашивает наш гимназический врач, а ещё кто-то в расстановку ей отвечает:
– Не наш, конечно, контингент, но почему так сразу – впроголодь?
А дальше всё сливается в один клубок, и я не различаю, где чей голос.
– Вы что – про контингент? Это сестра Миши Пудякина! Он же на стенде у нас висит, на первом этаже.
– Висит-то он висит, а здесь у меня тоже ходил прозрачный…
– От напряжения! Им же тянуться надо! Им же не как остальным, им не на «пять» – на «шесть», на «десять» учиться надо… Вот вам и обмороки…
– Сейчас ведь все хотят пробиться в люди… Как же, здесь ведь элитная гимназия!
– А что там за семья?
– Мама одна. Художница.
– Ну, как художница… Не то чтобы известная художница… Вот помните, у нас на входе делали панно? Там тоже одна Пудякина была…
– Да, женщина была – на мальчика похожа…
– На мальчика с длинным хвостом…
– Ну да… Ещё наверху всё время, под потолком… Там вроде она одна только рисовала – на лестнице, туда мужики не лезли…