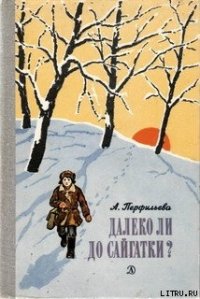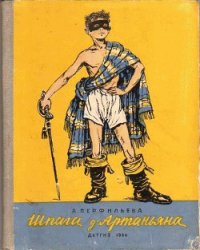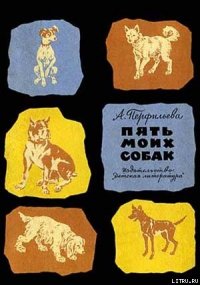Во что бы то ни стало - Перфильева Анастасия Витальевна (книги полностью .txt) 📗
Лену Дина видела с лета только однажды — сама зашла к Стахеевым. В ответ на слова Найле, что Еленочка еще не вернулась со службы, Дина мощно пожала ей руку, сказала: «Привет, хорошо, обожду!» — и без приглашения прошла в столовую, где оказались Ольга Веньяминовна с Николаем Николаевичем.
Поздоровавшись и с ними, Дина уселась, положила ногу на ногу и вызывающе небрежно закурила. Ольга Веньяминовна смотрела на нее с неподдельным ужасом.
— Вы, однако, не бережете собственные легкие! — сказал Николай Николаевич, подвигая Дине пепельницу, так как она собиралась использовать для пепла хрустальную вазу на этажерке. — Ну, как жизнь?
— Великолепно! — Динка лихо пустила к потолку кольцо дыма.
— Вы ведь, кажется, изволите закраивать обувь на фабрике с громким названием «Парижская коммуна»?
— Нет, не изволю. В настоящее время я по некоторым соображениям переменила работу.
— Кстати, не объясните ли, что за странная аналогия между производством обуви и революционным событием во Франции?
— Абсолютно ничего странного. Фабрика названа так не по аналогии, а в честь Парижской коммуны. — Дина выпустила уже не одно, целых три четких дымных колечка.
На последующие шутливо-язвительные реплики Николая Николаевича она отвечала еще язвительнее. Словом, держалась вполне независимо.
Вернувшаяся Лена бросилась ей на шею. Но Ольга Веньяминовна так зорко следила за обеими, так упорно не давала им побыть вдвоем, что Дина тряслась от злости. Девочкам удалось скрыться в Ленину комнатку очень ненадолго. Здесь, осматривая весь уже ставший привычным Лене комфортабельный уют, тыкая пальцем в абажур, чернильницу с медвежонком или коврик у кровати, Дина, презрительно кривя толстые губы, говорила:
— Это что? А это? А это? Фу-у!.. У тебя прямо не комната, а какая-то плюшевая конфетная коробка. Нет, если мы будем встречаться, то где-нибудь на чистом воздухе. Здесь мне что-то не нравится. А на всякий случай — пиши мой новый адрес!
В ноябре, незадолго до празднования Октябрьской революции, Алеша Лопухов и Вася Федосеев были приняты в комсомол.
Событие это прошло для обоих остро, волнующе, но не совсем так, как они ожидали.
Принимали ребят в заводском клубе, украшенном лозунгами и плакатами, свои же цеховые товарищи, доброжелательные, но придирчиво-дотошные на вопросы о международном положении, о задачах пятилетки.
Алешка отвечал как умел, только от смущения без конца повторял свое излюбленное «в общем»; Васька сбивался и, сердясь, возмущаясь: «Ну, чего топите, я ж не профессор?» — исправлял ошибки.
Спрашивали о работе — оба давно уже переросли «заплечников», стояли у станков. Ответ за них держал мастер, тот самый, что обозвал когда-то Алешку барышней, Ваську — битюгом, а теперь похвалил сдержанно:
— У Лопухова глаз верный, руки умные; Федосеев тоже с головой, ленца иногда заедает…
А вот когда дело дошло до автобиографии, Алешка точно онемел. Какая она у него была, биография? Всего ничего: ну, родился, ну, попал в детдом, после сюда, на завод…
Так он и начал:
— Моя автобиография? Во-первых, я, конечно, в общем, родился… — и надолго замолчал, сраженный дружно грянувшим хохотом.
— А ты давай по порядку! — одобряюще крикнул кто-то. — Кем отец с матерью были, как пацаном жил.
Алешка посмотрел в зал, смутился еще больше. Поднял голову.
И вдруг сами собой прорвались, побежали горячие, непридуманные слова. Алешка же не готовил их, не знал, что вспомнится это…
А вспомнились сразу, будто хлынули откуда-то, и колючая фронтовая отцовская шинель, и мать, в далекий золотой сентябрьский день восемнадцатого года певшая песню, когда вели ее с пленными красноармейцами на расстрел, и развороченная залпами кубанская станица, и бабка, и зарево пожаров над Армавиром, и часовые. Вспомнился Иван Степанович, раненный, по-детски жалобно просивший пить в изоляторе санитарного поезда, и армавирская тюрьма, где, помогая ему, стерег «своих» арестантов, и товарняк, и голая степь, в которой навеки остался лежать один из них, и вшивые беспризорники в детских вагонах, и громадная, голодная, незнакомая Москва, и родной детдом…
Алешка говорил скупо, глядя не на товарищей, а куда-то в окно, за которым чернело небо. Но слушали его поразительно тихо. А когда настала торжественная минута и секретарь спросил, кто за то, что Лопухов достоин быть в рядах Ленинского комсомола, весь зал молча поднял руки…
В середине ноября завод «Красный пролетарий» по призыву Коммунистической партии отправлял в ближние районы добровольцев для антирелигиозной пропаганды и борьбы с неграмотностью. Оба новых комсомольца — Алешка и Вася — вызвались ехать тоже.
Ехать надо было ненадолго, задача дана ясная и простая:
— Свезете в подшефные деревни книги, потолкуете с населением в избах-читальнях, там же свои хлопцы есть, поможете чем надо.
Лопухов и Федосеев попали в группу, направлявшуюся в Калужскую губернию.
Холодным ноябрьским днем отъезжающие собрались на Брянском вокзале. Шел дождь вместе со снегом, но перрон под огромной застекленной крышей был сух. Зато впереди у выхода бушевало, облепляя фонари, железнодорожные пути и землю, бело-серое месиво. Снег вдруг повалил сплошь.
Провожали отъезжающих с помпой. Домбровый оркестр бренчал вовсю, шумная заводская молодежь, девчата и парни, орала так, что остальные пассажиры, заражаясь общим весельем, растерянно улыбались. Кто-то запел «Мы, молодая гвардия», песню подхватил весь перрон. Чемоданы, заплечные мешки и тюки с книгами забросили в одно купе, сами сбились в другое (ехало семь человек), и поезд укатил.
Алешка, певший и оравший на перроне вместе со всеми, в вагоне присмирел. Васька, сбросив кепку, детдомовскую тужурку, отдуваясь, сел на лавку и пробасил:
— Братцы, как насчет пожрать? У меня брюхо подвело.
Алешка забрался на верхнюю полку, смотрел в запотевшее окно. Седые от изморози, ползли за ним бугры, черные поля, осенние перелески. Набухшие тучи волокли белые космы.
— Алешка, курить хочешь? — Васькино широкое лицо появилось вровень с полкой. — Ты что это, вроде скис?
— Пошли в тамбур.
Они пробрались в конец вагона. В тамбуре было сыро, знойко, папиросный дым сразу утягивало в щели, пол ходил из стороны в сторону.
— Я тебя давно спросить хотел… — Васька нагнулся, загораживая спичку. — Отчего последнее время про Ленку никогда не поинтересуешься?
Алешка же знал, что Вася, встречаясь с Найле, нет-нет да и наведается к Стахеевым.
— А зачем мне ею интересоваться? — холодно ответил он. — Живет, не тужит. Ты же мне сам рассказывал!
— Найле говорила, она про тебя интересовалась, и не раз.
Алешка скомкал недокуренную папиросу, придавил каблуком.
— Незачем это! — Лицо у него было мрачное. — Знаешь, ты со мной, пожалуйста, больше о ней не заговаривай. Совсем. Наши дорожки разошлись.
— Чудак, какая тебя муха укусила? — проворчал Васька.
— Не муха, а в общем…
— Может, это из-за того ферта, что у них пороги обивает?
— А если не только из-за него?
— Воля, конечно, твоя. — Васька был расстроен. — Значит, со мной поделиться не хочешь?
— Нет. Сейчас не могу.
Алешка остался в тамбуре один, Ваську позвали товарищи. Было холодно, но он упорно смотрел в щель на трущиеся друг о друга буфера, бежавшие под ними шпалы, вспоминал то, о чем старался не думать, да Васька разбередил своими дурацкими вопросами.
Случилось это уже недели три назад.
В механический цех принесли бесплатные билеты в цирк, и токарям достались два. Билеты разыграли, неожиданно Алешка оказался счастливчиком. Второй билет достался старому одинокому токарю, он махнул рукой и отдал его тоже Алешке. Васька порадовался:
— Вот и здорово! За Ленкой успеешь слетать. Или там за Динкой…
Он видел: заводские девушки, хоть сами поглядывают на Алешку, были для него — ноль.
Алешка слышал от Васьки, а ему, конечно, рассказывала Найле, что Лену последнее время усиленно навещает тот снисходительный франт, высмеивая которого он летом, как шут, прыгал через теннисную сетку. Но… так неудержимо захотелось вдруг увидеть Ленку, поверить, что все это ерунда, что не сменяла она его ни на каких франтов, по-прежнему своя, близкая!..