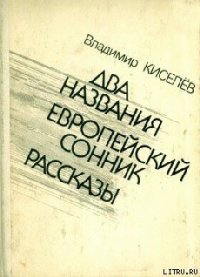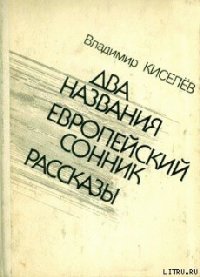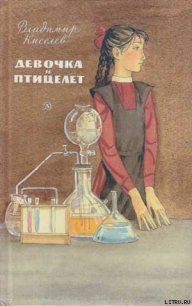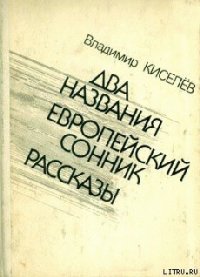Любовь и картошка - Киселев Владимир Леонтьевич (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
Алла Кондратьевна подошла к костру, взяла металлический прут и сквозь пепел постукала им по запеченной в глине цесарке.
— Послушай, Наташа, — позвала она и снова постучала.— Пока звук глухой, цесарка еще не готова. Но скоро будет. Главное — не прозевать момент.
Обращаясь к генералу Кузнецову, Анна Васильевна раздумчиво сказала:
— Саша у нее в первом классе, Миша во втором, Петя в третьем...
— У кого, Анна? — осторожно спросил генерал Кузнецов.
Анна Васильевна говорила так, словно она уже вспоминала об этих детях, но генерал Кузнецов совершенно точно помнил, что слышит о них впервые.
— У этой женщины из магазина. И вот считается: в неблагополучных семьях — неблагополучные дети. А я замечала: чаще наоборот. Ее семью никак не назовешь благополучной. А дети прекрасные. Добрые, умные, веселые. И пахнут мылом и зубной пастой.
Сережу всегда восхищала Наташина способность сказать в школе на переменке, а то и на уроке что-нибудь настолько неожиданное и смешное, что все вокруг начинали хохотать. При этом она сохраняла совершенно безмятежный, невинный вид, будто сама не понимала, что говорит. Но это было хорошо, когда касалось другого. А если тебя... Вот почему, когда в разговор сейчас вмешалась Наташа, он сразу заподозрил неладное.
— Или взять, как пример, Сережу,— чересчур громко сказала Наташа.— Семья... благополучнее, наверное, и не бывает. Даже завидно. А он,— еще серьезнее и рассудительнее продолжала Наташа,— как правильно сказала Алла Кондратьевна, лоботряс. Разбил машину. И что еще хуже, в пятнадцать лет жениться задумал.
Сережа захлебнулся от негодования:
— Это я задумал?!
— А что, нет? — страшно удивилась Наташа. — Обманывал?
Павел Михайлович наслаждался. Он любил Наташу за отчаянность и за веселье. Он понимал, как нелегко сейчас этой девочке. А вот поди ж ты, шутит и над Сережей и над собой.
— Смотри, Наташка,— сказал он весело.— Будешь нос задирать, он еще в самом деле раздумает.
«Вот ты, значит, как,— озлобленно подумал Сережа.— Издеваешься? Пользуешься тем, что ты девчонка. Что я не могу тебе врезать, как следует... И пожалуйста. И уезжай».
Генералу Кузнецову тоже не понравились эти Наташины шуточки. Он хотел было вмешаться, но раздумал и обратился к Матвею Петровичу:
— Вы говорили... посылал ваш сын стихи?..
— Посылал,— подтвердил Матвей Петрович.— Только не подошли они, видать. Чего-то он не так, должно, написал.
— Он посылал только первые стихи,— возразила Анна Васильевна.— В журналы, в газеты. Ему отвечали, что они слишком личные. А потом он перестал посылать.
— Ты помнишь Глаголева? — спросил генерал Кузнецов.
— Какого Глаголева?
— Начальника политотдела, Федю. Помнишь, как он у нас на Новый год «Барыню» с платочком плясал?
— Помню,— тронутая воспоминанием, улыбнулась Анна Васильевна.— Жену его еще звали странно — Интерна.
— Он сейчас руководит большим издательством.— Генерал Кузнецов помолчал. — Может быть, ты соберешь стихи, а я их передам?.. Я не считаю себя достаточно компетентным... Но, судя по тому, что я слышал, такие стихи просто необходимо опубликовать.
— Нет,— резко и властно ответила Анна Васильевна.— Я не дам его стихов! — Она задумалась и с горечью продолжала: — Пока он был жив... Если б их тогда напечатали!.. Когда он болел, каждая радость могла помочь ему. Она была как гирька на ту чашку весов, где лежала его жизнь... Кроме того, так мы тогда нуждались в деньгах... А теперь поздно. Мне это не нужно.
— Как ты можешь, мама? — страшно волнуясь, негодуя и заикаясь, спросила Наташа. — Может, это не нужно тебе. Но это нужно мне, нужно Сереже, нужно людям! Как ты можешь брать на себя такое?.. Стихи Виктора Матвеевича необходимо собрать и выпустить книгу. Во что бы то ни стало! — Она бросилась к генералу Кузнецову. — Папа, ты это сделаешь?
— Постараюсь,— просто сказал генерал Кузнецов.
У Наташи на глазах показались слезы. Она вспомнила стихи Виктора Матвеевича о смерти поэта. О смерти всех поэтов. И о его собственной.
Сережа посмотрел на Наташу с тревогой и сочувствпем. Обида на нее у него внезапно прошла. Ему казалось, что он знает, какие стихи Виктора Матвеевича вспомнила Наташа. Ему казалось, что они с Наташей даже думают об одном и том же, как пара в танце делает одни и те же движения. И одновременно он думал о том, что стихи — непонятная штука. Есть в них что-то такое, что заставляет человека прислушаться к себе и прислушаться к другим. И ощущать других, как самого себя.
Весной Виктор Матвеевич написал и прочел ему с Наташей короткое стихотворение'.
Сережа спросил: к чему это? В чем здесь, так сказать, смысл? Виктор Матвеевич рассмеялся и ответил, что это такое упражнение. Такая поэтическая тренировка. В четырех строчках разместились пять слов, начинающихся слогом «го»: «голубей», «голода», «гордость», «голыми», «горло». Наташа посмотрела как-то странно и спросила:
— Л может быть, это не только упражнение?
— Может быть, и не только,— ответил Виктор Матвеевич.
И заговорил о том, что фашисты в тюрьмах, в лагерях, в гетто специально не давали людям есть. Чтоб сломить их гордость, их способность к сопротивлению. И против порабощенных народов первым их оружием был голод...
«Ведь ничего этого не было в стихах,— думал Сережа.— Только «голубей», «голода», «гордость», «голыми», «горло».
И все-таки с тех пор, когда по радио говорили о том, что на земном шаре ежегодно умирают от голода, от недоедания до двадцати миллионов человек, или о числе безработных в Соединенных Штатах, в Англии, в Швеции, он теперь всегда вспоминал эти пять слов. И думал, что каким-то людям, характером своим ничем не отличающимся от фашистов, нужен и выгоден этот голод. И нужна и выгодна эта безработица. Иначе нигде бы не было ни голода, ни безработицы. Ведь это так просто.
У любимого Сережиного писателя, у Чарлза Дарвина, в одном из его трудов говорилось о том, как однажды в молодости Дарвин гнался с сачком за каким-то насекомым. И совершенно не заметил глубокой ямы. Дарвин свалился в нее. И пока он долетел до дна — в доли секунды,— перед ним в виде ярких и четких картин промелькнула вся его жизнь.
Прежде Сережа никак не мог этого понять. Но сейчас у него самого все эти мысли и о стихах, и о Викторе Матвеевиче, и о безработице, и о голоде пронеслись в голове в одно мгновение. Нет, даже, может быть, в долю мгновения, потому что, пока он все это подумал, Алла Кондратьевна лишь успела открыть рот, чтобы громко, убежденно сказать:
— И не сомневайтесь, Анна Васильевна! Книжка лучше всякого памятника. Наш колхоз возьмет тысячу штук. А можно и больше. Футляры красивые сделаем. Хоть из бересты можно. А сверху припаять синтетическую пленку. Для прочности. — И тут же пояснила: — К нам люди приезжают. Мы ездим. Знаете, как это хорошо будет в подарок — стихи. И не чьи-нибудь, а нашего односельчанина.