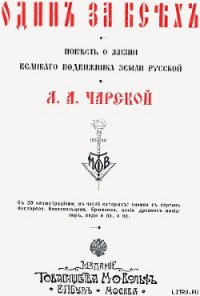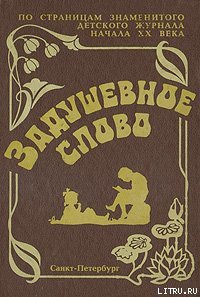За что? - Чарская Лидия Алексеевна (читаем книги txt) 📗
— Вот вам ваши барышни… Отличаются! Только второгодницы способны на нечто подобное!
15 сентября
Сегодня произошло событие в нашем классе. Немец Галленбек был не в духе. Он вызвал Додошку в первую голову и заставил продекламировать Лорелею Гейне.
Додошка, как и следовало ожидать, не знала Лорелеи, как не знала и многого другого. За Додошкой была вызвана старшая Пантарова. И та ни в зуб ногой. За Катей вызвали Марусю Верг. Та стихотворение знала, но заикнулась внезапно на предпоследней строчке. Обозленный уже заранее дурными ответами остальных, немец влепил Марусе единицу.
Девочки глухо зароптали.
— Верг знала урок. Единица не заслужена ею. Верг нельзя ставить единицу. Это несправедливо! Несправедливо! — слышалось из разных углов класса.
Галленбека взорвало.
— Молчать! — бегая от скамейки к скамейке, надрывался он, крича на всех.
Но девочки расходились:
— Безобразие! — все громче и громче роптали они. — С нами как с детьми обращаются. Мы не дети. Стыдно ставить единицу незаслуженно. Нечестно! Верг знала урок! Если будут ставить единицу знающим, то мы отвечать не будем, никто, никто!
Сима Эльская живо соскочила со своего места и закричала:
— Месдамочки! Кого бы ни вызвали — молчать!
— Что это значит, Эльская? — уже окончательно рассвирепел немец, — извольте сейчас же отвечать мне Лорелею!
— И не думаю! — пожимая плечами, произнесла Эльская, усаживаясь на свое место.
— Что-о-о? — нахмурив свои седые, нависшие брови, вскричал учитель и застучал линейкой по столу.
— Я отвечать не буду! — произнесла Сима.
— И я! И я тоже! — послышалось снова из разных углов класса.
— Ага! — прошипел Галленбек, — вы не знаете Лорелеи! Хорошо… Fraulein Дебицкая, Старжевская, Бутузина и Воронская, пожалуйте сюда к кафедре и отвечайте мне сейчас же!
Три названные парфетки — будущие медалистки, и я с ними, вышли на средину класса. Все трое — Валя, Старжевская и Бутузина, не торопясь ответили Лорелею, слово за слово, плавно и красиво, как и подобает отвечать на уроке лучшим ученицам класса.
Галленбек во все время их ответа милостиво улыбался, и по лицу его скользила довольная улыбка.
— Очень хорошо! Очень хорошо! — произнес он и поставил каждой из девочек по жирному и крупному 12.
— Ну, Fraulain Воронская, очередь за вами. Скорее. Но вместо того, чтобы отвечать поэтичную, как природа Рейна, знаменитую легенду в стихах любимого моего поэта, я тупо опустила глаза в землю, закусила до боли губы и упорно молчала, смотря в пол.
— Fraulain Воронская! Вы не хотите ответить?
— Не хочу! — произнесли мои губы, в то время как глаза стойко выдерживали свирепо устремленный на меня взгляд учителя.
— Значит, вы не знаете Лорелеи?
— Нет, я ее знаю!
— Но вы не отвечаете…
— Я не отвечу до тех пор, пока вы не зачеркнете Марусе Верг ее единицу. Она не заслужила ее!
— Это что такое! — так и подпрыгнул на своем месте немец, — в четвертом классе барышни ведут себя, как кадеты! Fraulain Эллис, не обратите ли вы внимание на это! — все так же свирепо обратился Галленбек к восседавшей за столом у окна с работой классной даме.
Она подняла на меня тоскующий взгляд и с видом мученицы проговорила:
— Воронская, отвечайте же.
Я молчала.
Немец еще решительнее ударил линейкой по столу кафедры и проговорил:
— Или вы ответите мне сейчас Лорелею, или… я отправлюсь тотчас же с жалобой к начальнице.
И он обвел весь класс торжествующими глазами и остановил их снова на мне. И так как я продолжала молчать, глядя на него исподлобья злым, вызывающим взглядом, он быстро сбежал с кафедры и скрылся за дверью. В ту же минуту чьи-то горячие руки обвились вокруг моей шеи, чьи-то горячие губы прильнули к моим губам.
— Воронская… Аида… душка… милая… спасибо! — шептала мне Маруся Верг, сжимая меня в своих объятиях.
— Воронская— молодец! Прелесть! Отлично, Воронская! Ну, вот вам и чужестранка, а лучше наших исподтишниц сорудовала! — послышались за мною сдержанные голоса. — Ну, уж и отличились же наши, нечего сказать! Какие бонтонные девицы! Стрижка хороша, а Вера еще лучше. Про Бутузину и говорить нечего— эта совсем оказенилась! Скорее умрет, нежели пойдет против правил институтских! — кричали насмешливые голоса девочек вокруг меня.
Мне улыбались, меня целовали. Те же самые лица, которые, какую-нибудь неделю тому назад считали меня чужестранкой, передатчицей и всячески изводили меня, теперь слали мне свои улыбки. И за что? — решительно не понимаю. За то, что я не решилась поступить иначе! Какой же тут подвиг?
— Воронская! Брависсимо! Дайте мне пожать вашу благородную лапку! — без церемоний, перепрыгнув через парту с сидящими на ней сестричками Пантаровыми, подскочила ко мне Волька, — ей-богу же удружила до сих пор!
И широким жестом руки шалунья провела рукой по горлу.
— Ну, а я должна сказать вам, что вы поступили непростительно дерзко, — проговорила m-lle Эллис, с видом ангела приближаясь ко мне, причем она тщетно силилась придать строгое выражение своему добродушному, милому лицу. — Monsieur Галленбек пожалуется maman. Maman разгневается на вас, и вам придется очень нехорошо, моя милая.
— А я уверена, что maman поймет меня, — тряхнув стрижеными кудрями проговорила я и, пожав плечами, отошла от нее.
— Позвольте и мне поблагодарить вас. Вы поступили благородно, Воронская, — услышала я очень тоненький и нежный голосок за собою.
Подняв голову, я увидела Черкешенку. Она стояла предо мной. Ее красивая, тоненькая ручка, не менее выхоленная, чем рука Вари Голицыной, протягивалась ко мне. Я невольно подалась вперед и поцеловала ее…
Галленбек, против ожидания, не потащился к maman с доносом, а ограничился тем, что передал всю историю инспектору классов Тимаеву. Тот зашел перед вечерним чаем к нам, прочел длинную нотацию о том, как нехорошо дерзко обходиться с учителями, которые пекутся о нашем благе, и, попросив m-lle Эллис оставить меня без шнурка в следующее воскресенье, так же поспешно скрылся, как и пришел.
Этим весь инцидент был исчерпан.
Однако я смутно почувствовала, что с этого дня приобрела уважение класса.
— У Лиды Воронской есть свои убеждения, — часто слышала я фразу, и эта фраза приводила меня в восторг.
У меня есть убеждения! Не правда ли, шикарно?
30 сентября
Утром уроки, днем уроки и вечером опять-таки уроки. Когда же прикажете писать?
Вчера, когда я вошла в класс утром, на моем тируаре красовались две яркие розы редкой красоты.
На маленькой белой карточке было написано мелким красивым почерком:
Прошу принять, как слабую дань моего восторга перед вашим золотым сердцем, душка Воронская!
— Боже, что за сладость! — вскричала я, пораженная при виде роз. — Стрекоза, не знаешь ли откуда сие?
— Это Черкешенка, непременно она! — проговорила моя соседка убедительно. — Я видела, как она посылала дортуарную Акулину за розами вчера вечером. Она тебя обожает, Черкешенка. Разве ты не знала?
— Обожает?
Не скрою, что-то очень приятное до краев наполнило мое тщеславное сердчишко. Эта красивая черкешенка обожает меня, дарит мне розы, восторгается мною! Она — такая обаятельная, сама такая задумчивая и серьезная!
Я готова уже была вскочить со своего места и бежать благодарить мою новую поклонницу, как резкий, веселый голос внезапно раздался над моим ухом:
— Ба-а-т-ю-шки! Розы! Подношение Черкешенки! Трогательно и сладко!
Розы вянут от мороза, твоя же прелесть никогда! Это сам великий Пушкин сказал. Чувствуете вы это, Вороненок! Сам гений! Можно понюхать ваши розы? — прибавила она. — Надеюсь, они не пахнут табаком?
— Волька, не дури! — остановила расходившуюся девочку Рант.
Я, вся красная, смущенная от насмешек Симы, подошла к Черкешенке. Она стояла у окна и смотрела на улицу.
— Елена! — проговорила я, заставив ее вздрогнуть от неожиданности, — не находите ли вы, что смешно подносить розы своим подругам?