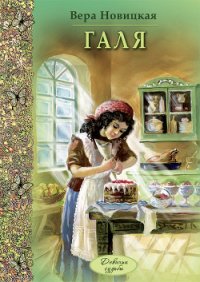Безмятежные годы (сборник) - Новицкая Вера Сергеевна (серии книг читать бесплатно .TXT) 📗
– Только громко не читайте, – прошу я.
Пусть, это куда ни шло, он – не беда, важно, чтобы до Дмитрия Николаевича не дошло.
– Прекрасное стихотворение, очень, очень мило! – восклицает Андрей Карлович. – А вы еще стеснялись. Видите, я в вас больше верил, чем вы сами, я знал, что Fraulein Starobelsky всегда все хорошо делает и на нее можно положиться. Очень, очень хорошо.
Скажите пожалуйста, понравилось! Милый Андрей Карлович, он такой добрый! От его похвал у меня «с радости в зобу дыханье сперло», и чувствую, щеки мои начинают алеть. Люба торжествует.
В противоположность моей, физиономия Таньки Грачевой принимает светло-изумрудный оттенок: похвала кому-нибудь другому – это свыше ее сил, этого не может переварить ее благородное сердце.
– А мне разве не покажешь? – просит меня на перемене Смирнова.
О, ей – с удовольствием: она такая чуткая, доброжелательная, так понимает все…
– Хорошо, – говорит она, – никакой фальши, напыщенности, просто и искренне, как ты сама. Славная ты, Муся!
Вера крепко-крепко целует меня. Эта не позавидует, она всегда так рада всему хорошему, где бы ни встретилось оно. Да и кому ей завидовать – ей, которая на целую голову выше всех нас?
Но кто искренне поражен, так это Клеопатра Михайловна: как, эта ужасная, отпетая, и вдруг?.. Она, видимо, очень довольна – и сразу сделалась ко мне ласкова и снисходительна.
На переменке, вижу, Андрей Карлович беседует у поворота лестницы с Дмитрием Николаевичем, а у самого в руке – о ужас! – бумажка с моим стихотворением.
Боюсь поднять глаза, чтобы не встретиться с насмешливой улыбочкой словесника. Вдруг – о ужас в квадрате! – слышу, Андрей Карлович говорит:
– А вот и она сама. Fraulein Starobelsky! – зовет он.
Мне становится жарко, и щеки мои, должно быть, «варенее красного рака».
– Так мы на вашем стихотворении и остановились. Сами же вы его, конечно, и продекламируете. Не правда ли, это будет самое подходящее? – последняя фраза обращена к Дмитрию Николаевичу. – Вот и господину Светлову ваше произведение понравилось больше всех остальных, а вы стеснялись показать. То-то!
Не веря ушам своим, поднимаю глаза на словесника. Улыбочки, которой я пуще огня боюсь, нет.
– Да, очень мило, просто и тепло, – говорит он.
– Видите, – улыбается Андрей Карлович и качает своим арбузиком, заявляя этим, что аудиенция окончена.
– Прекрасная девушка, – едва сделав несколько шагов, слышу я, – умненькая, воспитанная и такая прямая, правдивая натура, – расхваливает меня милый Андрей Карлович.
– Да, одаренная девушка, – раздается голос его собеседника.
Не может быть!.. Он, Дмитрий Николаевич, считает меня одаренной. Меня?.. Ведь не за эти же маленькие стишки? Уж, конечно, и не за «лентяя», так как, в сущности, я оказалась тогда перед ним в довольно глупом положении – что уж греха таить! За что же?.. А все же приятно, что с высоты парнасской, из уст неприступного олимпийца раздалось одобрительное слово.
Теперь у нас каждый день репетиции. Собирают нас в зале, входит начальница, временно исполняющая должность государыни, и вся гимназия разом приседает с соответствующим приветствием. Потом… Потом на сцену выступаю я, делаю нижайший реверанс, так что почти касаюсь пола коленкой, и начинаю. Страшновато. Все так смотрят. А все-таки хорошо.
Пока мы гимны распевали да реверансы делали, Дмитрий Николаевич успел просмотреть нашего «Митрофанушку как тип своего времени» и вернуть его нам. В таких случаях ведь никогда без курьезов не обходится; на сей раз наша злополучная Михайлова превзошла саму себя. Как вообще из всех сочинений, где то или другое не совсем удачно и точно, Дмитрий Николаевич и из него читал выдержки, а в нем и то, и другое, и третье, и десятое – патентованная ерунда.
– «Недоросли берут свое начало от Петра Первого, – читает Дмитрий Николаевич, – который, распространив в России западноевропейскую цивилизацию, основал их».
Класс хохочет уже с первой фразы.
– Крайне туманно, госпожа Михайлова: выходит, будто вы хотите сказать, что распространение недорослей было одной из реформ этого государя. Между тем, по историческим данным, такого преобразования за ним не числится. Нужно точнее выражаться. Далее: «Поэтому завелась мода воспитывать помещиков на иностранный лад, и родители брали им гувернеров, бывших кучеров, как, например, у Стародума, и сапожников, чтобы они могли достичь высших служебных должностей, так как безграмотным уже нельзя было». Тут я совершенно отказываюсь понимать, сапожники ли и кучера добивались высших должностей или как-нибудь иначе. Затем далее: «Хитрость Митрофанушки с матерью несколько оправдывает его глупость» – крайне своеобразное выражение – «и доказывает, что невежество у него было не врожденное, а благоприобретенное». Знаете, вы высказываете такие смелые гипотезы, что трудно так сразу освоиться с ними. «Каких же плодов можно было ждать от Митрофанушки?» Этой фигурой вопрошания ваше сочинение заканчивается…
Он говорит еще что-то, но неудержимый хохот класса покрывает его слова. Прелесть! Шедевр!
Юля Бек на сей раз получает «одиннадцать» и торжествует. Сочинение было написано мной, переписано братом Пыльневой и им же отнесено Юлиному швейцару. В приписке стояло: «Непредвиденные обстоятельства задержали меня». Сама же Бек, несколько просветленная, сообщает мне эти слова.
– Вот видишь, напрасно тревожилась, я тебе говорила, ничего страшного нет. А знаешь, – продолжаю я, – таких болезней, от которых голова худеет или толстеет, нет. Это он тебе приврал для красного словца; я у многих спрашивала: все говорят, что это вздор.
– Да и я спрашивала, – признается Юля, – и мне то же самое сказали. Но зачем же он уверял?
– Я думаю, он вообще страшный врунишка, болтает сам не знает что…
– Как? – перебивает меня Юля. – Ты думаешь, что все, что он говорил, – неправда, и он не… – Она запинается, и личико ее принимает удивленно-огорченное выражение.
– Нет-нет, – утешаю я, – ты, конечно, ему нравишься, но ты вообще многим нравишься: вот и мой двоюродный брат нашел, что ты очень миленькая, и еще один наш знакомый, но ведь они же не пошли тебе в любви объясняться.
– Да, но он уже пять лет… – протестует Юля.
Я во что бы то ни стало хочу охладить ее пыл:
– Просто так только говорит, ведь он и про голову уверял, а вышла ерунда.
– Нет-нет, это правда! – протестует Бек. – Подумай: он все, все про меня знает, даже относительно «Пью-пью» и крымских яблок.
Этот аргумент кажется ей особенно красноречивым и убедительным.
– Ничего это не доказывает, – опять окачиваю я ее холодным душем. – Я вот терпеть не могу Таньку Грачеву, а прекрасно знаю, что она обожает ореховую халву и мятные пряники! Ведь, в сущности, все мы в курсе, кто из нас что любит, ну, могли и братьям рассказать. Почем ты знаешь: может, это брат какой-нибудь нашей ученицы, та к слову сболтнула, он и слышал. Ничего тут особенного нет.
– Ты думаешь?
– Конечно.
Юля задумалась.
Через несколько дней мы послали ей записку: «Я решил не видеть вас до тех пор, пока не почувствую себя достойным вас. Буду совершенствоваться, а для этого нужны многие, долгие годы. Будьте счастливы». Внизу иероглифообразный росчерк. Сейчас это успокоит ее, а затем найдется, вероятно, еще кто-нибудь, кто так же быстро и непрочно пленит ее нежное сердце.
Мамочка очень обрадовалась, когда я рассказала все про свои стихи и прочитала их. Раньше даже ей стеснялась показать. И она одобрила. Странно! А ведь самой-то мне они все-таки не нравятся.
Глава XVII «Письма русского путешественника». – Телефон. – «Cceur de lisette». – Розы
Увы! Все наши приготовления пропали втуне: государыня, как говорят, чувствует себя нездоровой и не приехала. Как жаль! Я прямо-таки утешиться не могу. Мне так хотелось ее увидеть.
Занятия снова потекли обычной чередой. На днях Дмитрий Николаевич читал нам «Письма русского путешественника» Карамзина. Как же он, действительно, великолепно читает. Заслушаться можно. Все наши и заслушались: семьдесят восемь глаз обратились в одно сплошное лицезрение и впились в чтеца (своих двух не считаю, так как они не утратили способности вращаться), столько же ушей жадно поглощало каждый вылетавший из его уст звук. Впрочем, насчет числа ушей не поклянусь, но что взоры все без исключения были прикованы к читающему – факт неоспоримый.