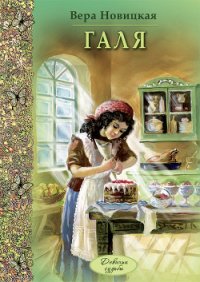Безмятежные годы (сборник) - Новицкая Вера Сергеевна (серии книг читать бесплатно .TXT) 📗
Почему это находят, что Карамзин слишком сентиментален и приторен? Мне так ужасно нравятся его описания, его чудесный слог, длинные периоды, так изящно, торжественно, поэтично, а я страшно люблю все красивое.
Какие у Дмитрия Николаевича иногда звучат теплые, глубокие нотки, слушаешь и не веришь, что это он – холодный, равнодушный, очевидно, никого кроме себя не любящий.
Класс был зачарован его чтением, впрочем, большинство, пожалуй, им самим.
– Боже мой, Боже мой, как он читает! – с влажными, растроганными глазами говорит Штофик.
Это одна из его самых на вид сдержанных, но искренних и серьезных поклонниц, она не по-глупому «обожает» его, не сует красивых ручек с бантиками для росписей, не ловит его у лестницы и на всех перекрестках, чтобы спросить какую-нибудь глупость, – ничего подобного. Эта, мне кажется, действительно, крепко влюблена в него.
– Знаешь, Муся, мне ужасно хочется сказать Светлову что-нибудь хорошее, совсем особенное, такое, знаешь… – от избытка чувств у бедного Штофика не хватает слов.
– Сокровище! Прелесть! Как он читает! То есть я прямо готова была расцеловать его! – восклицает наша восторженная толстушка Ермолаева.
– Правда, чудесно? – кратко спрашивает меня Смирнова, и ее глаза смотрят мечтательно и восторженно.
– Какой у него голос! Какое выражение! Это что-то артистическое, это… Я даже не знаю, как выразиться… – и Ира Пыльнева, которая никогда за словом в карман не лезет, не находит подходящего выражения, и она сама не своя.
– Слушай, Муся, – на следующее утро заявляет Штоф. – А я вчера глупость сделала, и, кажется, большую. Помнишь, я тебе говорила, что мне хочется что-нибудь необыкновенное сказать Дмитрию Николаевичу, что я в восторге, что я обожаю, преклоняюсь перед ним. Даже написать хотела. После раздумала: нет, Боже сохрани, еще почерк узнает, так в глаза посмотреть ему стыдно будет, и все-таки писать это не то; хотелось сказать, еще разок услышать и его голос. Ты понимаешь, неудержимо захотелось. Вдруг мелькает мысль – переговорю по телефону. Спускаюсь по лестнице. Швейцара, слава Богу, нет, значит, не услышит. Отыскала номер телефона того дома, где Дмитрий Николаевич живет, звоню, прошу вызвать господина Светлова.
– Кто у телефона? – раздается вдруг через некоторое время его голос.
Я как услышала, так и растерялась, все забыла.
– Кто у телефона? – спрашивает опять.
А я и не подумала, как же на такой простой вопрос ответить?
– Это я… – говорю, – только… только я не могу сказать своего имени…
– Чем могу служить?
– Мне нужно… мне хотелось поговорить с вами.
– К вашим услугам.
Я краснею, мнусь и не решаюсь.
– Пожалуйста, я слушаю, – раздается опять.
– Я хотела вам сказать, – набираюсь я, наконец, храбрости, – что вы такой замечательный, такой замечательный, такой… и я очень, очень люблю вас…
– Весьма благодарен, – сухо так отвечает.
– Вы не сердитесь? Скажите?
– Помилуйте, за что же?
– Да вот, что я говорю по телефону.
– Но это право каждого.
– Да, но… Пожалуйста, не сердитесь… Мне так неприятно… Извините меня… До свиданья, – и я совсем машинально делаю перед телефоном реверанс.
Поворачиваюсь, за моей спиной стоит швейцар. До того это глупо вышло, что я готова была сквозь землю провалиться. Вообще, мне теперь так нехорошо на душе. Зачем я это сделала? Вдруг он голос мой узнал? Как ты думаешь?
– Едва ли, – утешаю я.
– Но ведь я же его сразу узнала.
– Да, но не забывай, что ты именно его и ожидала услышать и что вообще мы его голос гораздо лучше знаем, чем он наши. Подумай сама: он в трех гимназиях преподает, разве всех запомнишь?
Это несколько успокаивает ее, но не совсем. Бедный Полуштофик, славненькая такая и неглупая девочка, а ее разговор по телефону вышел совсем швах. «Да, мать моя, – в таких случаях поучает Володя, – любовь не картошка, не выкинешь за окошко».
Ермолаша, та не вела разговоров по телефону и прибегла к более наглядному способу выражения своих чувств, решив возлить перед своим кумиром благовонные масла и путь его усеять цветами.
Является сегодня в класс с двумя великолепнейшими пунцовыми розами.
– Какая прелесть! – восхищаюсь я.
– Правда? Это, знаешь ли, я для Светлова принесла.
– Как? Неужели ты поднесешь ему их?
– Не то что поднесу, а… Одним словом, они будут у него. Впрочем, тебе можно сказать, ты не проболтаешься. Если Клепки не будет в классе во время математики, все хорошо, но если она тут расположится… Ну, да ладно, каким-нибудь способом да улизну. Видишь ли, я хочу эти розы положить ему в карман пальто, а для этого необходимо сбегать в раздевалку непременно в то время, когда урок идет, потому что на перемене и швейцар, и горничная постоянно около вешалки топчутся.
На Лизино несчастье, на математике Клеопатра Михайловна сидит. Ермолаева мнется, пыхтит и посапывает за моей спиной, что у нее всегда служит признаком величайшего нравственного или умственного напряжения. Вдруг с решимостью отчаяния она поднимается, затыкает нос платком, слегка запрокидывает голову и, сделав полуоборот в сторону Клеопатры, мимическим жестом испрашивает разрешение на выход; та утвердительно кивает ей. Кое-как сохраняя достоинство страждущего человека до порога, едва переступив его, Лиза опрометью мчится к лестнице и катится вниз. Через некоторое время она возвращается; ее круглое, веселое, широкое, как русская масленица, довольное лицо доказывает, что предприятие вполне удалось.
– Великолепно все вышло, – рассказывает она потом. – Прихожу вниз – ни души. Я прямо к вешалке; Дмитрия Николаевича крючок третий справа, я уж давно заприметила, и пальто у него черное. Сунула руку в один карман, там что-то лежит твердое, большое, в бумагу завернутое. Сюда нельзя – помнутся розы. В другой – там только носовой платок. Великолепно. Прежде всего я вытащила из своего кармана маленький флакончик духов «Coeur de Jeanette» [116] и весь платок облила; ты знаешь, Светлов любит духи, от него всегда так чудесно пахнет. Эти мне недавно подарили, они восемь рублей флакон стоят и очень вкусные. Кстати, я его платок понюхала, он как раз забыл почему-то надушить его сегодня. Теперь мне так приятно, что Дмитрий Николаевич будет так же пахнуть, как я, – у нас с ним теперь точно что-то общее будет.
– Одним словом, «Coeur de Jeanette» передаст то, что чувствует coeur de Lisette [117] , – смеюсь я.
– Да, правда, как это хорошо выходит. Ну, а потом, – повествует Лиза дальше, – я осторожненько завернула в середину платка розы так, чтобы они не вывалились и не сразу видны были, затем приколола ему булавкой к подкладке под отворотом пальто бумажку с надписью: «Я боготворю, обожаю вас, вы мой идеал», и давай Бог ноги, скорей от Прасковьи с дороги, так как слышу, кто-то двери открывает.
– Слушай, Лиза, ты все же в сторонке от Дмитрия Николаевича держись, потому, если он тебя как-нибудь нечаянно понюхает, то сразу догадается, кто ему сюрприз в кармане устроил.
– Что ты? Разве я пахну?
– И жестоко.
– Верно, руки? Надо их хорошенько с мылом помыть. Да, Муся, – уже совершенно другим, деловым озабоченным тоном начинает она, – а как же все-таки сегодня с русским будет? Я не успела, как сказано было, прочесть и разобрать «Письма русского путешественника» – там страшно много, а времени мало: третьего дня задали, а сегодня уже отвечать. То письмо, которое он громко читал, его, конечно, я знаю, но другие… А ты?
– Я успела, выучила все.
– Вот счастливая, ты всегда все знаешь! Необходимо посоветоваться с классом, – кажется, многие недоучили.
Лиза была права: кроме семи-восьми лучших учениц, никто полностью заданного не приготовил.
– Нужно целым классом отказаться! – раздается со всех сторон.
Да, но это легче сказать, чем выполнить: ведь здесь дело касается не нашего добрейшего Мешочка, не снисходительного Николая Константиновича, – ведь тут надо объясняться со Светловым. Отказаться готовы все, но взять на себя смелость заявить отказ, на это храбрецов не находится. Пасует даже Шурка Тишалова, даже Пыльнева.