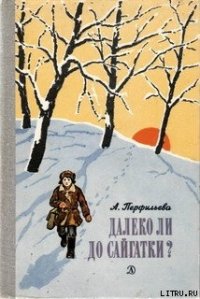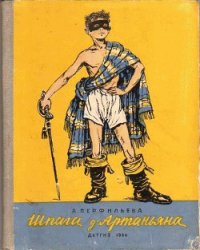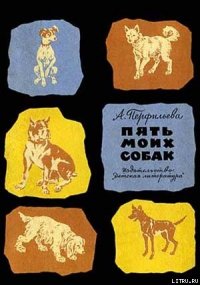Во что бы то ни стало - Перфильева Анастасия Витальевна (книги полностью .txt) 📗
— А… вы знаете? Все?
— Ну, не все, но кое-что. От Васи. Ты же мне ничего не рассказывала о своих родственниках!.. — Она помолчала, ожидая ответа, но Лена только опустила голову. — Скажи, ты часто видишься с Диной?
— Нет. Редко все-таки.
— Это жаль. А больше ни с кем из наших девочек? Да, я тоже о многих ничего не знаю. Но верю, они не забыли нас. Послушай, а ты ведь стала красивая!
Лена порозовела от удовольствия.
— По старому времени сказали бы: совсем невеста.
Лена подумала, подумала и спросила:
— Марья Антоновна, а вы когда-нибудь были… вот вы сказали… невестой?
Откинув гладко зачесанную голову и блестя ровными зубами — лицо у нее неузнаваемо похорошело, — Марья Антоновна рассмеялась так заразительно, что Лена заулыбалась.
— Значит, ты все же допускаешь, что и я когда-то была молодой? — вытирая проступившие слезы, спросила она.
— Конечно, допускаю. — Лене стало очень приятно, что у них такой неожиданный разговор. — Конечно!
— Да. У меня был жених. Он погиб в восемнадцатом году на Урале. Там шла гражданская война… — Марья Антоновна задумалась, печально и ясно глядя перед собой.
— Вы очень… любили его? — Лена спрашивала осторожно, стараясь не сделать больно.
— Очень. Это был замечательный человек, Лена. Когда-нибудь я расскажу тебе о нем.
— И вы не забывали его? Никогда?
— Никогда. Я бы не могла забыть, даже если б хотела. В жизни трудное и тяжелое забывается гораздо легче. А прекрасное остается навсегда. Так уж, в общем, устроены люди.
Что-то страшно знакомое прозвучало вдруг в последней фразе. Да, «в общем»!.. Не у Марьи ли Антоновны перенял Алеша это слово?
— А можно… я пойду к нему? — Лена говорила тихо, боясь спугнуть с ее лица это удивительное выражение светлой грусти.
— К кому, Лена?
— К Алеше.
— Конечно. Четвертая дверь налево. Иди, позови его тоже пить чай!
Лена вышла быстро, чуть не стукнувшись лбом о притолоку. Отчего же вдруг так страшно стало увидеть Алешку?
Она не чувствовала себя перед ним виноватой, нет, это было не то слово. И все же смутно понимала — для его обиды есть основание.
Алешка стоял в такой же крошечной комнате, загородив плечом свет настольной лампы, будто оберегая разложенные истрепанные книги, миллиметровку… Андрей Николаевич, постаревший — Лена не видела его давно, — сухонький, как мальчик, возился с чем-то у окна. На ее несмелые шаги обернулся, приветливо закивал головой и сразу ушел. Видно, не хотел мешать? Или знал что-то? У Лены перехватило горло.
— Здравствуй, Алеша!
— Здравствуй, Лена.
Так они постояли друг против друга, не подавая рук. Алешка глядел в пол, Лена с тревогой и лаской — на него. Как исхудал, осунулся! Даже нос заострился, подвело глаза. А скулы выдавались резко, и костлявые мальчишеские плечи ссутулились… Или все это бросалось в глаза от невольного сравнения с широкоплечим небрежным Всеволодом? Лена переступила с ноги на ногу.
— Алеша, ты болел, мне Дина говорила?
— Болел. А ты… как живешь?
— Я хорошо, я ничего. Что это ты делаешь?
— Черчу.
— Ты-и? Зачем?
Он молча сгреб книги, справочники, прикрыл миллиметровкой.
— На рабфаке задают.
— Я знаю, тебя с завода послали, Динка говорила… А после пойдешь в вуз? И ты уже комсомолец? Как хорошо!
— Да, неплохо. А ты так и прижилась у этих своих… бывших? Понравилось?
— Алеша, ты на меня за что-нибудь сердишься?
— За что мне на тебя сердиться?
— Я ведь скоро буду чертежницей, давай помогу? Ты только объясни!
— Зачем мне помогать? Один, что ли, не справлюсь?
— Ой, Алешка, я тебя так давно не видела! С самого лета!
Он сказал негромко:
— Я-то тебя видел.
— Ты? Где? Когда?
Лицо его быстро холодело, становилось чужим.
— В цирке. Чуть не рядом сидели.
— Ах, в цирке! Ах, да. Почему же я тебя не видела! — Но она смутилась. — Почему ты не подошел?
— Не до меня тебе было. С этого ракеточника — плэ, рэди! — глаз не сводила.
Лена вспыхнула:
— Ну, знаешь, во всяком случае он повежливее тебя!
— Еще бы, умеет обхаживать…
— Алеша, как тебе не стыдно, как ты можешь?
Но он уже плохо владел собой. А она подошла ближе, улыбнулась, протянула обе руки…
— Ты же по-прежнему мой самый близкий друг! Алешка!..
Он дико посмотрел на нее.
— И я ни в чем, ни в чем перед тобой…
Он отпрянул и вдруг его точно прорвало. Побелевшими губами, наваливаясь на стол, заговорил сдавленно, почти шепотом:
— Ты врешь! Ты врешь! Какой я тебе друг? Три месяца и не вспоминала! Зачем ты пришла? Я ведь все знаю, все… Ну и ладно, ходи себе в цирки, сиди с ним на диванах… Еще бы, такой тебе ближе! Только не ври! Не ври!..
— Алеша, молчи, Алеша! Какое ты имеешь право?
— Имею! Потому что я тоже думал — ты мне друг! А ты… А ты…
— Алеша, это же не так! Я и ему про тебя говорила…
— А-а, про меня? Ты не смела ничего говорить обо мне!..
— Почему?
— А почему ты не смотришь мне прямо в глаза? Почему ни разу не могла приехать к Васе с Найле, зайти к Динке? Что, молчишь? Разве так относятся к друзьям? Уходи! Уходи!
— Уходить? Ты… меня гонишь? Хорошо, я уйду. И уж больше никогда не приду! Значит, он лучше, благороднее. Он бы ни за что, никогда…
— А мне плевать на его благородие! Слышишь, плевать!
— Ах, так? Может, тебе и на меня плевать? Хорошо же! Пусть! Это мой лучший… Да, вот тебе! Это мой будущий…
— Уходи! Уходи! — Глаза у него были синие от обиды и ненависти.
И надо же: в эту самую минуту в открывшуюся дверь вихрем ворвалась… ну конечно, она — Дина!
Сложное чувство, владевшее ею после Лениного письма, наверное, и толкнуло ее именно сегодня, сейчас примчаться к Алешке. Разговор по дороге из Политехнического музея подтвердил серьезность положения. Совершенно ясно, что Ленка готова влюбиться — уродское слово! — в этого своего инженеришку. Прекрасно! О том, что Алешка влюблен в Лену, Дина догадалась давным-давно. Догадалась просто по глазам. Было больно, но никто все равно этого не узнает… Как будто теперь, убедившись, что Ленка увлечена, Дина должна была бы радоваться? А вот нет. Она страдала за Алешку, ревнуя его к Лене, а ее — к этому поганому Всеволоду почти так же, как сам Алешка. Надо было немедленно что-то предпринимать, вытаскивать Ленку. Она посмела на кого-то променять Алешку? Ладно, еще посмотрим!..
И Дина кинулась между ними, стоящими друг против друга со стиснутыми кулаками, с пылающими глазами, как враги. Кинулась, чтобы не то столкнуть, не то помирить… Лена крикнула:
— Хорошо! Я ухожу! Прощай… прощайте!
Всхлипнув, толкнула дверь, пробежала коридор, сдернула, не видя, не слыша Марьи Антоновны, свою шубейку, и — вниз по лестнице, задыхаясь от обиды, едких слез и злости.
Как он посмел? За что? Какое ему, Алешке, дело? Она вправе выбирать себе друзей, она взрослая, работает, вправе даже любить кого хочет, да, да! Что, нет? Она докажет это! И Алешка поймет, но будет поздно! Пусть! Пусть!..
Лена выбежала из переулка, пошла совсем не в ту сторону, откуда пришла. Мороз щипнул ухо. Машинально выдернула из кармана беретик, надела. Алешка, Алешка, как же ты мог?
И вдруг вспомнила давно-давно забывшееся: первую свою встречу с ним под Армавиром, пыльную теплушку, кукурузный початок и холодное слово «буржуйка», которым тогда, в далеком детстве, он словно отгородил ее от себя… А потом степь, и как они бежали, схватившись за руки, от неподвижного, мертвого тела… Алеша, ты же не смеешь после всего, что было, после детдома ни на одну минуту стать чужим!
С другой стороны нарядной от снега улицы прилетел голос:
— Леночка, никак, ты?
Кузьминишна, повязанная теплым платком, махала туго набитой кошелкой. Лена глотнула застрявший в горле комок, перебежала мостовую, уткнулась Кузьминишне в плечо и заревела.
— Доченька, ты о чем? О чем?
Давясь слезами, Лена сказала: