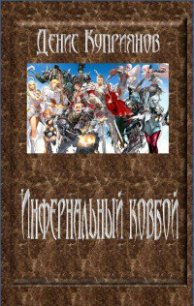Неприкосновенный запас - Яковлев Юрий Яковлевич (чтение книг .TXT) 📗
Комендатура была чем-то похожа на милицию, чем-то на воинскую часть. Столы, скамейки, сейф. На стенах плакаты: "Все для фронта, все для победы!", "Родина-мать зовет!". Портреты военных. На окнах решетки.
Посреди комнаты печурка, от которой к окну тянулась длинная труба.
- Кем командирован в Ленинград? - сухо спросил капитан.
- Политотделом. Там все написано, - тихо произнес я.
- Я тебя спрашиваю, а не бумагу, - капитан пальцем ткнул в мои документы, словно хотел их проткнуть. - Цель командировки?
Все это было похоже на допрос, и я растерялся.
- Дело в том, что до войны я был балетмейстером, - пробормотал я.
Капитан оборвал меня:
- Меня не интересует, кем ты был до войны. Что делаешь в Ленинграде? Почему не на фронте? Люди воюют, а он по городу гуляет. Балетмейстер!
- Мне приказано найти артистов.
Капитан не обратил внимания на мои слова.
- Где часы, которые выменял у пацана?
Я забыл про часы.
- Нет у меня никаких часов! - крикнул я отчаянно.
Капитан резко встал, сорвал с моего плеча вещмешок. Развязал его. И высыпал на стол все содержимое: сухари, несколько банок консервов, пакеты концентрата, горсть сахара... Один кусочек сахара упал на пол. Патрульный наклонился, поднял и осторожно положил на стол.
В комендатуре установилась гнетущая тишина.
- Расстреливать спекулянтов надо, - с горечью произнес капитан. И стал сухарь за сухарем, банку за банкой аккуратно, как вещественные доказательства моей вины, класть продукты обратно в мешок.
- Видите ли, это не все мое... Тут паек полкового комиссара, попытался объяснить я коменданту, но он не слушал меня.
В это время дверь отворилась, и в клубах пара возникла девочка-подросток, она была так закутана, что лицо ее невозможно было рассмотреть. Из-под пальто торчал белый халат.
- Я из госпиталя, - простуженным голосом сказала она. - Привезли койки, а разгружать некому.
Комендант поднялся. Посмотрел на гостью. Потом решительно повернулся к лейтенанту и сказал:
- Прыгунов! У нас там двое на гауптвахте. И этого, - он кивнул на меня, - балетмейстера. Пошлете. Надо помочь.
...Я иду по набережной Фонтанки и разглядываю огромные круги, которые образовались на льду от снарядов. Я вспоминаю, как здесь до войны устраивали каток. Играла музыка. Горели цветные лампочки. Звучали веселые голоса. Весной каток таял и расколотый на части уплывал в Неву, чтобы вернуться к новому году. Я вспоминаю и как бы смотрю в перевернутый бинокль - все это неестественно далеко. Невообразимо далеко. Война, блокада удалили, отбросили далеко назад то, что было всего лишь в прошлом году. В прошлом году, как в прошлом веке.
Я иду налегке - без вещмешка, который остался в комендатуре. И без ремня, потому что арестован. А за мной автоматчик.
И вдруг Аничков мост без клодтовских коней. Куда девались дикие кони, которых бронзовые атлеты пытаются укротить? Погибли? Умчались в бой? Или их где-нибудь расстреляли из противотанковых пушек прямой наводкой, бронебойными...
Конвоир привел меня во Дворец пионеров, в родной дом, где я занимался со своими ребятами. Где рождался мой любимый танец "Тачанка". Но почему у главного входа во Дворец стоят санитарные машины? Почему люди в белых халатах выдвигают из машин носилки и торопливо вносят в парадный подъезд?
- Здесь давно госпиталь? - спрашиваю я у конвоира.
- Всегда госпиталь, - сухо отвечает солдат с автоматом.
Мы входим в вестибюль, здесь лежит гора только что привезенных коек. Я беру верхнюю койку, поднимаю и несу по белой мраморной лестнице. Я несу койку и смотрю на родные стены сквозь железные ромбики сетки. Люстры в чехлах. Зеркала завешены, словно в доме покойник. Паркет застелен линолеумом. То ли чтобы сохранить редкий рисунок полов, то ли для гигиены.
Я ставлю койку, куда мне велят, и иду обратно. Но мне кажется, что ромбики остались перед глазами. Что я теперь всегда буду видеть родной Дворец пионеров сквозь ромбики госпитальных коек.
Я подхватываю новую койку и несу ее в комнату сказок - прямо с лестницы налево. Иду не торопясь, чтобы не задеть острым углом койки прекрасные палехские фрески - фрески моей юности. Я разглядываю их сквозь железные ромбики.
И вдруг за спиной слышу знакомый простуженный голос:
- Жили-были старик со старухой.
- Старик ловил неводом рыбу, - отвечаю я и поворачиваюсь.
Передо мной стоит та самая санитарка-подросток, которая приходила в комендатуру.
- Я здесь до войны работал, - объясняю я и опускаю на пол койку.
- Сказки рассказывали?
К нам подходит старая санитарка.
Я смотрю на нее и с трудом узнаю нашу гардеробщицу тетю Валю.
- Тетя Валя! Я вас не сразу узнал, тетя Валя. А Вадика Ложбинского я сегодня узнал по часам...
- Трудное время, - вздыхает тетя Валя. - Люди не узнают друг друга... Я была толстая, а теперь от меня и половины не осталось.
И тут я спохватываюсь, лезу в карман и достаю часы - серебряную луковицу на цепочке. Я же не отдал Вадику часы! Забыл! Как нехорошо получилось.
- Сколько времени? - спрашивает меня молодая санитарка.
Я смотрю на часы невидящими глазами, потом прикладываю их к уху молчат.
- Они не ходят, - говорю. - Старые часы... старинные.
И вот тут появляется лейтенант Прыгунов из комендатуры и говорит:
- Твои дела уладились, Корбут. Все в порядке. Можешь следовать.
Он протягивает документы, ремень, вещмешок.
- Куда следовать? - растерянно спрашиваю я.
- Куда тебе положено... А часики все-таки у тебя? - Он смотрит на меня укоризненно. И от этого взгляда мне становится нестерпимо тошно.
Лейтенант уже спускается по белой мраморной лестнице, а санитарки вопросительно смотрят на меня. И тогда я тоже начинаю спускаться. Я иду медленно, не глядя под ноги, как лунатик. Сам не знаю, куда иду.
И ушел бы, если бы меня не окликнула тетя Валя:
- Ты куда, Боря? Ты живешь на Петроградской?
- Я?.. Я нигде не живу. Нет больше моего дома.
- Где же ты будешь ночевать?
- Не знаю, - признаюсь я. И вдруг осознаю, что в родном городе мне негде ночевать.
- Сейчас поздно, - говорит тетя Валя. - Опять в комендатуру попадешь. Идем со мной.