Первое имя - Ликстанов Иосиф Исаакович (читать полную версию книги txt) 📗
— Я знаю, только я наизусть не могу, у меня память слабая… — сказал он.
— И не надо наизусть. Говори своими словами.
— Социалистическое соревнование… это когда кто-нибудь хорошо работает, так он должен помогать тому, кто хуже работает, — стал припоминать Паня.
— Точно! Помогать по-товарищески. А для чего?
— Для общего подъема! — вспомнил Паня, обрадовался и заторопился: — А кто работает хуже, чем другие, тот должен учиться и догонять лучших тоже для общего подъема…
— Видишь, твой отец так и поступает: отдает ученикам свои знания, свой опыт. Понимаешь, он свое сердце отдает людям, чтобы росли новые богатыри труда, чтобы был общий подъем. А что на вершине этого подъема? Знаешь?
— Коммунизм, да? — сказал Паня.
— Коммунизм! — повторил Борисов. — Чем больше становится хороших работников, тем быстрее мы идем к коммунизму. Гордись тем, что твой батька так хорошо работает. Гордись и тем, что вокруг твоего батьки растут новые богатыри, радуйся этому вместе со всей Горой Железной. Понял?
С ружьем за плечами Борисов зашагал по тропинке и вскоре бесшумной тенью скрылся в чащобе.
— Тебе все ясно, Пань? — спросил Вадик. — Я совсем ничего не понимаю… Только, знаешь, я все равно думаю, что если Степан до праздника сработает лучше, так…
После разговора с Борисовым эта суета Вадика вдруг показалась Пане такой неуместной, глупой, даже оскорбительной, что хоть уши затыкай.
— Кто скорей? — И Паня побежал по тропинке; потом замедлил бег, пропустил вперед добросовестно пыхтевшего Вадика и не спеша пересек прибрежную поляну.
Все было тихо. Филипп Константинович и Григорий Васильевич спали, укрывшись тулупами, а костер погас и угли подернулись пушистым сизым пеплом.
— Я уже на финише, ага! — похвастался Вадик, успевший нырнуть к своему отцу под тулуп.
— Рекордсмен, ничего не скажешь, — похвалил его Паня.
Положив сушняка на пепелище, он оживил огонь, сел и задумался, загляделся… Необычно было все вокруг: небо серебряное, а стволы, ветки сосен и каждая хвоинка — словно нарисованные чертежной тушью; вода в Потеряйке тоже светлая, блестящая, как ртуть, а лодка, стоящая у берега, совсем черная.
Из охотничьей избушки вышел смотритель охотничьего угодья Фадей Сергеевич и склонился над лодкой посмотреть улов.
— Ничего, удачливые-добычливые! — сказал он с утренней хрипотцой в голосе. — А ты, сын милый, что не спишь? Спи, знай себе.
— Нет… — И Пане показалось, что этим незаметным движением губ он чуть не разрешил то, что заняло его душу.
Отец поднял голову, увидел, что Паня сидит у костра, и успокоился.
— Залезай под тулуп, — предложил он, и его глаза сразу закрылись: он снова заснул, прежде чем улыбка оставила его лицо.
Все было попрежнему серебряным и черным, но черное понемногу туманилось, расплывалось, а серебряное едва заметно смягчалось, будто небо подернулось тонкой золотой пылью. Это загорался день — еще молчаливый, еще не нашедший дневных звуков, как чувства Пани еще не нашли слов, объясняющих то, что творилось в его душе. Это дума — большая, необычная — овладела его душой и ведет его дальше и дальше, уводит от самого себя, открывает ему то, что было непонятно, недоступно…
Смотрит Паня на спящего отца, вглядывается в его лицо, замечает то, чего не замечал раньше, и эти маленькие открытия трогают сердце так нежно, так больно… Похудел батя за последнее время, стало больше белых волос, прибавилось морщинок у глаз и на лбу. Это последние невысказанные тревоги и опасения оставили свой след, свою отметину. «Мало ты видишь!» — только что сказал Борисов Пане. И вот, не шевелясь, смотрит, смотрит на отца Паня, будто увидел его впервые… Как же так? Ведь он знал своего отца, знал его голос, усмешку, поступь, привычки, знал он и то, что всегда казалось ему самым главным в отце: победы и награды, питавшие его, Панину, гордость. Знал, знал и теперь понимает, всем сердцем чувствует, что из-за своей детской суеты не разглядел он этого человека, не понял, что его батька еще больше, еще лучше, чем казалось раньше. «Настоящий человек, настоящий коммунист», — сказал о нем Борисов. Да, герой, богатырь — и такой простой, такой необыкновенно простой, что нет на свете человека дороже и ближе. Смотрит, смотрит на отца Паня, и тихо-тихо у него на душе…
Ветер, прилетевший из-за Потеряйки, сдул серый пепел с углей, завил его пляшущим вихорьком и рассыпал, рассеял, развеял. Брр, как свежо!.. Небо стало яркозолотым, но казалось холодным, потому что шуршал, шипел ветер в сосновой хвое.
— Ложись, поспи! — приказал отец, разбуженный порывом ветра. — Не выспишься — весь день себе испортишь. Ишь, в пепле весь, как дед Мороз в снегу.
Дрожащий от холода Паня поскорее стряхнул с себя пепел, устроился под тулупом, взял руку отца и зажал ее подмышкой, а отец пошевелил пальцами и слегка пощекотал его.
— Спи, Панька, не балуй, — с шутливой строгостью шепчет он. — Спи, неслух, баловень!
— А не буду, не хочу спать! — говорит Паня, укладываясь поудобнее. — Так полежу.
— Ну, лежи так, — соглашается отец. — Это можно. Полежи…
И посмеивается: знает, хитрый, что Паня сейчас словно в омут нырнет.
Светлый день
— Степа!.. Так и знал, что приедешь. Ну, здравствуй! Спасибо, порадовал, работник! Теперь уж как хочешь, а я тебя похвалю. Орел!
Эти слова, сказанные отцом, и разбудили Паню.
Он откинул тулуп, сел и увидел Полукрюкова. Великан стоял рядом с Григорием Васильевичем, сжав его руку, улыбался, и Паня тоже улыбнулся — таким счастливым было лицо Степана. Великан все смотрел на Григория Васильевича и, наверно, хотел сказать что-то торжественное, заранее приготовленное, но сказал простое:
— Поспал после смены, да и сюда, к вам, на автобусе.
— И славно! Гостем у нашего костерка будешь. — Григорий Васильевич раскурил папиросу и откашлялся. — Порыбачили мы с Филиппом Константиновичем не зря. Сварим уху на весь мир, а для тебя особо ведерный котел поставим. Осилишь? — Он сказал Пане: — Ты что камешком сидишь? Беги разомнись и умойся.

В два прыжка Паня очутился на берегу и увидел Федю. Забравшись в долбленку, он рассматривал острогу.
— Федька, я вчера этой острогой порядочного щуренка заострожил! — вместо приветствия сказал Паня. — Хорошо, что ты приехал. Пойдем на Шатровую гору и в Ермакове зеркало посмотрим… А Женя не приехала?
— Не хотелось ее рано будить… А где Вадик?
— Спит под тулупом. Всю рыбалку проспал.
— Здравствуй! — протянул ему руку Федя.
— Постой!
Паня стал коленями на плоский камень у самой воды, умылся, пользуясь речным песком вместо мыла, вскочил и подал Феде мокрую руку:
— Теперь здравствуй! Ну, поздравляю тебя, что Степан так хорошо сработал. Желаю ему еще лучше!
— Спасибо! Вот спасибо, Панёк! — сказал Федя, сжав его руку.
— Крепче! — потребовал Паня.
— Не напрашивайся, пожалеешь!
Федя притянул Паню к себе, повернул его руку ладонью вверх и так хлопнул по ней своей пятерней, что по всей Паниной руке брызнули огненные, колючие мурашки.
Мальчики сели рядом на борт долбленки.
Становья рыбаков на берегу Потеряйки уже пробуждались. Повсюду взвились голубые дымки костров, послышались голоса. Люди ходили от костра к костру, хвалясь друг перед другом ловецкой удачей.
— Я уже слал вчера, а Степан пришел из карьера, и я проснулся. Степан так обрадовался, что всех разбудил, стали ночью чай пить, — рассказывал Федя. — Помнишь, как мы беспокоились, когда «Четырнадцатый» в известняках засел? А теперь оправдал себя Степан, правда?
— И еще лучше оправдает! — уверенно сказал Паня. — Знаешь, мой батька теперь будет со Степаном на равных соревноваться. Они таких рекордов наставят, что траншею как на реактивном самолете пройдут!
Федя глубоко, радостно вздохнул:

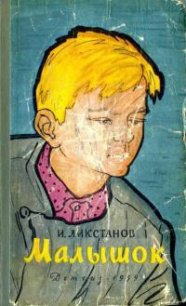
![ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНГИ [худ. Г. Фитингоф] - Ликстанов Иосиф Исаакович (книги читать бесплатно без регистрации .TXT) 📗](/uploads/posts/books/35599/35599.jpg)

