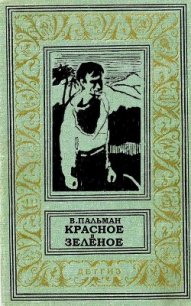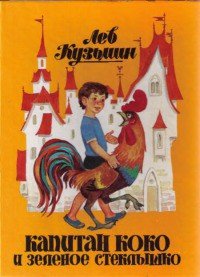Зелёное, красное, зелёное... (Повесть) - Огнев Владимир (книги бесплатно без регистрации полные .txt) 📗
Это было давно. Я был тогда такой же маленький, как эти мальчишки.
«Зеленое… Красное… Зеленое!..»
Эхо донесло до меня его голос почти через тридцать лет: «Ну, ну же, Борис! Неужели не видишь?.. Ты прищурь глаза! Видишь?» В голосе моего друга жила надежда, и потому звенело чистое серебро. Я злился и просил оставить меня в покое, так как до конца и не понимал — не розыгрыш ли это? А он хохотал, счастливый и пьяный оттого, что ему казалось, будто он видит днем цвета маяка на горизонте. «Слепые! Какие вы слепые!..» — «Не вижу, ничего не вижу! — радостно кричала Лена. — И ты не видишь, но хорошо врешь!» А я не понимал, почему она радуется, и стоял насупившись: не нравилось мне это сумасшествие. Я вообще не любил путаницы, неясности, загадок, мистификаций. В эти мгновения Саша раздражал меня. Другое дело — плыть наперегонки или нырять на дальность. Тут все было видно. Если я проигрывал, я знал, что проиграл, и не обижался. Видеть то, что никто не может видеть, — надо же придумать!
…И я сам не знаю, как это получилось. Кто-то внутри меня сказал, а я услышал:
— А ну, проверим зрение. Какого цвета вода на горизонте?
— Синяя! — закричал Жора, ни секунды не колеблясь.
Саша пристально смотрел на горизонт.
— Синяя! — не унимался Жора.
— Погоди, — сказал я. — Не торопись.
— Когда долго смотришь, черная, — раздумчиво сказал Саша.
— А сейчас? Зеленая… Красная… Зеленая… Прищурьтесь. Видите? Против маяка…
— Маяк не работает, — отпарировал Жора. — А потом, красное море не бывает. И зеленое не бывает. Оно синее.
— Зеленое… красное… зеленое… — бормотал Саша. — Нет, не вижу… — Он очень расстроился и даже вздохнул.
— Смотри еще, — настаивал я.
Мне казалось, что это очень важно, чтобы Саша увидел то, что видел мой друг. Я не мог бы объяснить, почему важно, но чувствовал это, надеялся, что чудо, которое было однажды, не может исчезнуть навсегда. И самое удивительное, мне показалось, что я тоже начинаю различать эти цвета там, где море нежно касается горизонта. Саша потер глаза и весь подался вперед. Жора смотрел не на море, а на своего товарища, он даже присел и высунул язык. Лицо его было впервые лишено того шельмоватого и самоуверенного выражения, которое до сих пор не сходило с его круглой физиономии. Он надеялся на друга.
— Вижу! — Саша закричал это так радостно и громко, что я вздрогнул.
— Где? Где? — растерянно спрашивал Жора, а Саша прыгал и кричал:
— Вижу! Вижу! Зеленое, красное, зеленое!..
Мы шли уже минут двадцать. Протез здорово натер ногу, но я обещал ребятам показать нашу пещеру и, чего бы это ни стоило, решил дойти до нее. Да и самому мне было любопытно через много лет войти в святое святых моего детства, нашего с Сашей детства… Городок остался позади. Мы подымались в гору. Море, отсюда совершенно синее, оставалось все время сзади, потом показалось справа, а затем скрылось за выступом горы. Пахло полынью и мятой. Мы шли между редкими кустами кизила. Ребята время от времени забегали в кусты и срывали твердые красные ягоды, лакированные на ощупь и терпкие на вкус. Кизил еще не доспел, и у самой косточки оставались белые волоски, щекотавшие язык. Мякоти, если можно было так назвать жесткое тело плода, было меньше, чем косточки. Я сломал палку и показал ребятам, как легко из нее сделать лук — кизил гнется хорошо и вязкость у него больше, чем у акации. Из акации же лучше делать стрелу — она легкая.
— А наконечник из колючки умеете делать?
— Каждый дурак умеет, — сказал Жора, который снова почувствовал уверенность в себе. И верно, я ведь забыл, что они выросли на том же берегу, и странно было задавать наивные вопросы.
Дорога стала чаще петлять, пошла круче. Ребята забегали вперед, а потом поджидали меня, нетерпеливо оглядываясь. Гимнастерка взмокла. Нога болела. Солнце напекло голову, фуражка казалась тяжелой каской.
— Скоро дойдем? — спросил нетерпеливый Жора.
— Уже немного, — ответил я, с улыбкой рассматривая высокие шлемы из лопухов, сколотых колючками кизила, которые украшали детские головы.
Ноги ребят казались белыми от пыли до икр, а худые лопатки блестели как начищенная медь. На этот раз они ждали меня в тени глиняного обрыва, под которым проходила тропа. Это был карьер, откуда возили глину. Дно карьера было ярко-желтым, стена — коричневой. Я встал в узкую полоску тени, снял фуражку. Саша ковырял глину грязным пальцем, а Жора, сидя на корточках, мял уже большой комок в своих потных ладонях. Глина пахла сырым и затхлым.
— Там ручей есть, — сказал я.
— Ого! — радостно отозвался Жора. Нос его был в глине, глаза казались совсем желтыми.
МОЙ ДВОР
Я вспомнил свой двор, когда он казался мне материком, когда деревья были огромными, а тень от ветвей ласковой защитой, когда трава, мягкая, сочная, пахнущая свежестью, щекотала лицо, а солнечные зайчики перебегали по ней как живые…
Выбита трава была только по дорожкам. Одна вела вокруг дома к колодцу, который стоял на границе участков. Колодец был новый, его чистили и сделали свежий сруб, крышу. Старым оставался барабан — блестящий и гладкий от тысячи ладоней. Когда с рокотом опускалось ведро, разматывая веревку, барабан подскакивал оттого, что один бок его был чуть толще другого, вот тут и надо было его прижимать ладонью. Она становилась постепенно горячей. А когда вода, поблескивая в ведре, подымалась до уровня сруба, надо было, продолжая вертеть правой рукой барабан, перехватить левой тонкую, режущую детскую ладонь дужку и, приподняв ведро, осторожно, чтоб не слишком расплескать воду, поставить на край сруба, одновременно начав разматывать барабан. Два оборота — как сейчас помню. Поверхность воды покачивается в ведре все медленнее и целиком, будто ее покрыли черной крышкой. Мне нравилось отпить холодной воды через край ведра, хоть это и не разрешалось. Потом я нес ведро, перегибаясь в обратную сторону и размашисто меняя руку.
Дорожка, твердая, казавшаяся босым ногам каменной, вилась среди травы к сараю, манящему летом прохладой и темнотой. Окон в нем не было, свет падал туда большим прямоугольником в широкие двери, одновременно служившие и воротами. Обычно ближе к двери и стояли мангалы, хозяйственные столики — наши и тети Лизы, которая жила с нами, но готовила отдельно на свою «ораву».
А орава была: ее муж, дядя Миша — бухгалтер и домашний философ с большим носом, головастый Сергей и совсем сопливая Саша, которая все время болела и просила скороговорочкой: «Либи-хиби», что означало «рыбы, хлеба». Они приехали с Украины.
С ними приехал и мой дедушка, седой, высокий, голубоглазый, сухой старик с коричневым от загара телом, похожим на поджаренную хлебную корочку. Он ходил дома в чистой сорочке из домотканого полотна, в черных штанах, которые подвязывались красной бечевочкой. От него всегда исходил какой-то свежий, чистый запах, как будто пахло бельем на морозе. Борода, белая, большая, была жесткой и всегда пахла табаком, но не резким, а каким-то слабым, будто он не курил, а вдыхал свежее сено.
Вход в дом с улицы — парадный — был почему-то заложен кирпичом и забелен, а входили мы со двора, попадая сперва в застекленную террасу вдоль всей стены, а оттуда вели три двери: в мою комнату, прямо — к тете Лизе, а чуть левее, рядом с тетей Лизой, была дверь к нашим остальным двум смежным комнатам.
Выйдя на тропку, ведущую назад к сараю, можно было свернуть чуть левее, и ты попадал в сад, еще дальше она вела в виноградник, мимо грядок небольшого огородика и упиралась в зеленую дощатую будку у самого забора. В будке была крутая крыша, а под нею — вырезанное сердечком отверстие. Летом, когда я просыпался от хриплого крика и хлопанья крыльев соседского петуха, первое, что я видел, протирая глаза, — это то, как мама в красно-белом сарафане шла по дорожке с ведром и веником к зеленому сооружению с сердечком. Потом там плескалась вода на пол и слышалось шуршание веника, гремело ведро, и из зеленой будки текли ручейки воды. На траве с час примерно оставались капельки, а пыль на дорожке сворачивалась в круглые пилюльки, которые постепенно лопались и превращались в подобие рыбьей чешуи, — солнце брало свои права.