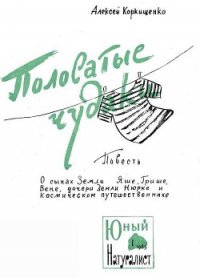Внуки красного атамана - Коркищенко Алексей Абрамович (бесплатные онлайн книги читаем полные .txt) 📗
- Ты что тут делаешь, едрена мышь?
- Да я Париса объезжал, - растерянно ответил Егор.
- А деда своего уже объездил? - строго сказал Евтюхов. - Покатался ты на нем, как солдат на ведьме, - все бока отбил. В больницу отвезли твоего деда. Довел ты его до трясучки, суконный сын!.. Афоня на всю станицу разгавкал про твое геройство.
Егор молчал.
- Ну ладно, пойдем, дам поесть. Потом погутарим. После ужина они расположились у база на свежескошенной траве. Евтюхов закурил и долго молча смотрел на огонек цигарки, посапывая то ли сердито, то ли раздумчиво. Потом проговорил неторопливо и внушительно, как он делал все, несмотря на свой малый рост и легкий вес:
- Миня жалеет тебя, идола, а у меня ты бы сплясал кабардинку! Как же наследник, чтоб ты луснул!
Голос у Степаши Евтюхова негромкий, хриплый: в гражданскую войну шашкой чикнули по горлу.
Егор промолчал. Да и что он мог сказать?
Ночь была звездной, тихой. Пели сверчки. Их песни сливались в одну, оттого казалось, что рядом лежал огромный кот и сладко мурлыкал, развалясь в сытой дреме на еще теплой со дня и пахнущей хлебом земле.
- А все это потому, что ты, баран, не знаешь своего деда, а то бы ты поимел к нему уважение, - продолжал Евтюхов.
- Да знаю я его, - ответил Егор.
- Черта с два ты знаешь! Он же не любит о себе рассказывать. Вот ты меня, его друга, расспроси. Я с ним дружу с тех пор, как пеленки свои на табак променял. Эх, Миня, Миня! Сколько дорог мы проскакали стремя в стремя!..
Егор присунулся ближе к Евтюхову. От него тянуло застарелым самосадным духом. Наверное, Евтюхов пропитался им еще с гражданской войны, прокурился у походных костров, у которых грелся вместе с Миней.
- С германского фронту мы вместе вернулись домой, - неторопливо продолжал Степаша, - тряхонули богатеев, немца Штопфа выковырнули. Был тут такой владетель экономии, у нас его прозвали Што Пошто. Как клоп тут присосался на нашей земле, паразит!.. Установили Советскую власть в округе. Красный флаг вывесили на атамановом доме. Миню красным атаманом, председателем Совета, выбрал народ, а меня - его секретарем.
Да... Помню, говорит мне Миня, оставайся, мол, Степаша, за меня, а я еду в хутор Ольховый казаков агитировать в красный казачий полк. Жмут беляки, говорит, по всему фронту, надо защищать Советскую власть. Ну, поскакал он с соратниками, а им в Федькином яру - знаешь? - перевертни, вроде Афони Господипомилуй, засаду устроили. Навалились, руки за спину скрутили, взяли в плен. Каратели били их, руки-ноги ломали, пытали, но они держались, как железные. Верили в свое правое дело, в Ленина поверили на всю жизнь... Расстреляли их. Миню тоже расстреливали... В упор стреляли. В глаза огнем брызнуло - рассказывал Миня. Упал он. Очумался ночью. Ощупал себя - вроде все цело, только голова гудит и лицо в крови... Видел шрам у Мини над бровью?
- Видел, - ответил Егор, в волнении сглатывая слюну.
- Так это тогда его цапнула пуля... Выполз он в рощу, отлежался. В Ольховскую приехал верхом на быке - приблудного поймал.
Ночью нагрянули мы на хутор, распотрошили белых карателей в пух и прах. Отомстили за своих боевых друзей и братьев. Похоронили мы их в братской могиле... Там меньшой брат кузнеца Кудинова, Тёмки Табунщикова отец и другие казаки.
Ох, и лютый же до врагов стал Миня! Шашка у него еще дедовская была...
- С серебряным эфесом? - порывисто спросил Егор и запнулся.
- С ним, с серебряным. Месяцем гнутая... Вертелась она в его руке, кубыть пропеллер. Полк сколотили сильный - молодец к молодцу. Миня командиром был. Он всегда в атаку летел впереди. Шашка сияет, конь бешеный, как врежется в гущу беляков - и пошла сеча! Земля дрожит, стон кругом, кони кричат, шашки звенят, искры сыпятся - страхи небесные!.. Я, телохранитель Минин, вокруг него верчусь, из маузера хлопаю, прореживаю беляков, которые роем вьются возле него, а он кричит: "Круши гадов!" - и шашка его, как молния, полосует врагов!.. Россию, Украину прошли мы с ним, внове на Дон повернули. Били беляков в хвост и гриву. И они нас, случалось, крепко били.
Да-а... Трудно в то время было разобраться, кто тебе друг, а кто враг. Как-то отступали мы разбитые: Деникин нас потрепал, интервенты ему помогали. От полка человек двадцать осталось... Драпали здорово, устали, почти все раненые. Заночевали в каком-то хуторе. Народ непонятный там, слова не выспросишь. Чисто бирюки!.. Я и Миня остановились у одного хозяина, дюже смурного деда. Поесть он нам дал, самогону-первача поставил - уважил вроде бы. Выпили мы с горя и заснули как дохлые. А проснулись утром - в степи лежим, связанные по рукам и ногам. И сидят вокруг нас старики вооруженные. Наш хозяин, смурый черт, вроде судьи, ругает нас.
- Вы что, - говорит, - такие-растакие (это он нас, значит, по батюшке, по матушке кроет), против православной веры пошли, христопродавцы! Кайтесь!
- А пошел ты, - говорит Миня, - к дьяволовой тетке! Ну, избили нас шомполами, - шкура клочьями обвисла.
- Кайтесь! - кричит смурый, а мы его к дьяволовой тетке отсылаем.
Там, в яру, карьер был глиняный. Глина там годная для горшков - клейкая, что твоя замазка. И вот стали деды в луже топтаться - глину месть.
- Прощай, - говорю, - боевой товарищ и друг закадычный Михаил Ермолаевич, утопят нас козлы паршивые в каше.
- Нет, - отвечает Миня, - они пострашнее казнь выдумали. Мужайся, друг Степаша.
Сорвали деды с нас одежду и кинули, связанных, в липучую глиняную жижу. Залепились мы ею, кубыть дождевые черви золой. Вытащили они потом из глины нас и растянули бечевками за руки-ноги между деревьями, на солнцепеке. Растянули так, что связки в костях хрустнули.
- Подурели вы, царские шакалы, - говорит Миня, - сейчас прискачут наши товарищи, порубят вас и хутор ваш спалят.
- До господа-бога поскакали ваши товарищи: кокнули мы их! - сказал смурый.
Лежим мы, растянутые, под июльским солнцем, жаримся, кубыть рыба в тесте на сковороде. Задыхаемся, дышать нечем: поры глиной замазаны.
- Кайтесь! Отрекайтесь от Советской власти! - кричат деды, а мы их к дьяволовой тетке отсылаем.
Солнце, с полудня прямое, льет жаром на нас. Глиняная замазка стала каменеть, трескаться, а под ней кожа пошла лопаться. Слышу я, из трещин кровь полилась по ногам и по животу... Черти в пекле не придумают такой казни, какую деды старозаветхие выдумали! И сидят, гады, смотрят, покуривают!
Заплакал я горько-горько, но не от страха, не от боли - от страшной обиды: не в честном бою погибаю, а пропадаю жалкой смертью, что козявка в коровячем шевяке.
- Креста на вас нету, - кричу, - басурманы распроклятые! Что ж вы мучаете? Боитесь с шашкой выйти супротив меня?!
- Покайтесь, пристаньте к войску Христову, тогда отмочим вас, отпустим, а нет - будете жариться и трескаться, пока не сдохнете! - кричат нам.
Миня запел:
- Это есть наш последний и решительный бой... Я подхватил:
- С Интернационалом воспрянет род людской...
А они регочут, бородатые ироды!
Затуманила мне голову страшная боль: полопалась кожа на груди. Духота давит меня, стону я. А Миня молчит, только зубами скрегочет.
- Ну, - говорит, - придет время, расквитаются с вами. Пусть мы умрем, но Советская власть будет жить вечно. Да здравствует Советская власть!
Смурый и другие стали бить нас палками по пяткам. И тут вдруг сверху, из-за тернов, ударили из винтовок: тресь-тресь! Те, которые изнущались над нами, - брык и дохлые! Остальные кинулись до коней. Вижу, отряд с шашками наголо наметом вымчал в балку им наперерез... И тут я сознание потерял... Очнулся в копане - по голову в воде. Глина откисла на мне, задышал я. Смотрю, надо мной стоит мужичонка - от горшка три вершка, стоит и смеется.
- Живой? - спрашивает.
- Я-то живой, - отвечаю, - а Миня какой?
- И Михаил Ермолаевич живой, ось, - говорит, - бачишь, цигарку сосэ да штаны смурого черта примеряе.