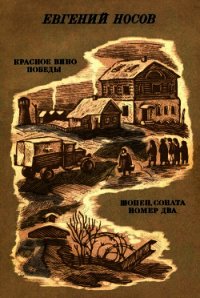Шопен - Оржеховская Фаина Марковна (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений TXT) 📗
Впрочем, это неверно, что народная песня создается легко, просто, без шлифовки. Весь народ шлифует ее, целые поколения обрабатывают и совершенствуют мелодию на протяжении десятилетий, все дальше и дальше, и песня становится прекраснее. И то, что создается и улучшается многими поколениями и развивается беспрерывно, ибо нет предела совершенству, – всего этого должен добиться композитор в течение одной короткой жизни. О, как она коротка! Ведь по крайней мере половина уходит на пустяки, растрачивается сердце, разум тычется, как щенок, о всякие загородки, которые другие люди искусно сплели и поставили, чтобы не дать пробиться живой мысли. И когда приходит наконец зрелость, сильная, мудрая, не успеваешь сказать то, что уразумел, и уносишь в могилу самое ценное… Певец на земле живет недолго. Моцарту было тридцать пять лет, когда он умер, Шуберту – тридцать один. В том же приблизительно возрасте умер Беллини. Уже нет на свете Феликса Мендельсона, кипучего деятеля, «романтического классика», товарища парижских лет. Страшно оглядываться вокруг… Россини, как видно, умер еще при жизни. Он поклялся, что больше не напишет ни строчки. Бетховен жил немногим больше пятидесяти, но как ужасны были его последние годы! Бах дожил до старости, но провел ее молчаливый, отчужденный от всех, в полной слепоте…
Сколько сил приходится тратить, прежде чем скажешь хоть одно новое слово! Не говоря уж о бесправном положении художника, о нужде, которую приходится терпеть, сколько предрассудков царит в его собственной среде, как мало художники понимают друг друга!
Нет, не только зависть! Это менее всего. Но не выносишь чужого голоса, чужой индивидуальности, оберегаешь свой облюбованный, взлелеянный мир, думаешь, что только тебе доступна истина. Не даешь себе труда вникнуть, разобраться в чужой жизни, а ведь ноты, лежащие перед тобою, – это сама жизнь, чье-то сердце, которое имеет право биться и не в лад с твоим собственным! В юности не бываешь так придирчив и нетерпим и охотно принимаешь другого, даже далекого, но потом, когда проходит молодость, замыкаешься в самом себе, боишься свежего ветра, боишься, должно быть, чужой юности. В тридцать лет косишься на двадцатилетних, начинаешь брюзжать. И только под конец жизни (независимо от того, когда он приходит) начинаешь понимать, что мир совсем не тесен и можно любить и уважать друг друга, не навязывая собственные мысли и вкусы.
Под конец жизни? Как люди быстро свыкаются с самым ужасным положением! Со старостью, с неизлечимой болезнью, с одиночеством! Даже шутишь над собой без особенной боли… Он писал родным: – Пришлось снова отправиться к нему (парижскому знакомому). Я велел отнести себя наверх и вторично напомнил ему… – Изабелла, прочитав эти строки, вскрикнула. Ей чуть не сделалось дурно. А он сам так привык, что слуга вносит его на руках на второй этаж – ведь он давно уже не может подниматься по лестнице! – что даже не подумал о том, как примут родные эти написанные мимоходом строки… Он, такой любящий сын и брат!
… Кто-то постучался. Это был старый, варшавский приятель Оскар Кольберг. Еще до отъезда Фридерика в Англию он принес несколько томов – огромный труд! – обработок польских народных напевов. Этот труд был высоко оценен в этнографическом обществ? но Кольберг хотел бы узнать мнение своего старого друга и знаменитого композитора. – Посмотри-ка, Фрицек, сколько тут собрано! – сказал Кольберг, едва скрывая довольство собой. – Ты найдешь здесь немало давно знакомого!
У Шопена было тяжело на душе. Как сказать старому товарищу, что больше половины его гигантского труда никуда не годится! То, что он собрал песни, было великим делом. Но эти выхваченные из фольклора мелодии были обработаны таким способом, что это противоречило всему духу и смыслу народной польской песни. Они походили на кукол с нарумяненными Щеками, на ряженых, которые передвигаются на ходулях. И Кольберг, столько лет отдавший наблюдениям, не понимал, что его собственные обработки лишены воздуха и тепла!
Но Шопен не высказывал Кольбергу свое мнение, да это и было бы бесполезно. Кольберг пришел для того, чтобы услышать хорошее мнение, а не плохое. Чтобы исправить ошибки и переделать свой труд, ему не хватит той жизни, которая осталась в его распоряжении, даже если он и проживет до глубокой старости… Этнографическое общество одобрило – ну и хорошо…
Шопен чувствовал себя очень усталым в тот день. Он так и сказал своему гостю. Но Кольберг, радостно возбужденный, играл свои обработки и спрашивал: – А это как? – Очень мило, – отвечал Фридерик. В одном только месте он осторожно заметил: – Не думаешь ли ты, что гармонии несколько искусственны и не соответствуют духу народной песни? – Ну, что ты, Фрицек! Уж мне ли не знать? Всю жизнь только и занимался этим! Другое дело, если бы я полез куда-нибудь в Испанию или в Италию! – Однако, – ответил Фридерик, – можно и не бывать в той стране, которую заочно любишь, и в то же время чувствовать, чем она живет. Бетховен никогда не был в Шотландии, но его шотландские песни поразительны по верности и близости к источникам. Я слышал эти напевы в Шотландии, от пастухов, которые даже не знали, что жил на свете Бетховен.
– Тем лучше! – сказал Кольберг. – Но я поляк и, стало быть, еще лучше знаю свое дело!
Фридерик вздохнул.
– А то, что ты сказал о Бетховене, это, конечно, интересно!
«Как много я стал говорить о музыке! – подумал Шопен. – Плохо дело!»
Глава седьмая
Шопен жил в Париже замкнуто. Играть ему было трудно, люди были утомительны, и только немногих он мог переносить. Он заполнял свои часы тем, что писал родным обо всем, даже о пустяках, – он чувствовал себя ближе к ним, когда на листе бумаги поверял им свои мысли. Не все, конечно. Не все. То горнило, которое и в жизни и в творчестве было его прибежищем от всего неясного, неправильного и несправедливого, еще оставалось в его распоряжении; он не позволял себе огорчать родных, за исключением тех редких случаев, когда он сам не замечал этого; не обманывал, но писал о том, что могло поддержать его собственную жизнь: о весне, о красивом Париже, о надеждах на свидание – кто знает, может быть, и близкое. У них, думал он, может укрепиться впечатление, что ему совсем не так плохо.
Другая его отрада была в общении с Делакруа, который часто приходил к нему. Если бы не боязнь утомить больного, художник проводил бы у него долгие часы. Он не встречал людей, подобных Шопену, и говорил, что приходит к нему учиться.
С Делакруа можно было говорить обо всем, даже об Авроре. Шопен показал ему письмо, написанное ею накануне окончательного разрыва. Делакруа читал его, потрясенный. Аврора дала волю своему негодованию, она была в бешенстве оттого, что Шопен предал ее, стал на сторону ее дочери, ее злейшего врага. Она не выбирала выражений, была груба, криклива. Делакруа так и видел перед собой искаженное лицо, покрытое красными пятнами.
Но самое ужасное было не в этом. Буйная, губительная слепота страстей могла быть оправдана. Но, наряду с пылкими словами несправедливого гнева, наряду с бранью, там попадались длинные, холодные рассуждения и напыщенные фразы, как будто переписанные откуда-то из популярной книги. Она была возмущена, это чувствовалось. Но она была возмущена давно – не только Шопеном и собой: за свою непоследовательность, несовершенство, за то, что давно тяготилась им, за то, что ее чувство оказалось таким же некрепким, нестойким, как у многих других людей, которых она осуждала. И одинаково упрекала себя за то, что хочет расстаться с ним, и за то, что не может решиться, медлит. И разжигала в себе негодование, чтобы оправдать разрыв. Но и этого ей показалось мало: она вооружилась рассуждениями, доказательствами, цитатами из философских сочинений. Она должна была остаться правой, как Лукреция, он – виновным, как принц Кароль.
Делакруа не ожидал этого. Он думал, что при этом разрыве она сохранила благородство, может быть, даже почувствовала укоры совести за «Лукрецию»…