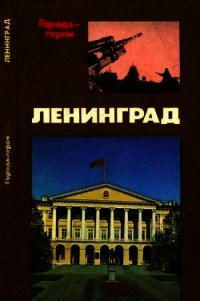Школа жизни. Воспоминания детей блокадного Ленинграда - Шаттенштейн Евгения Ричардовна (читать книги онлайн бесплатно полностью без .TXT) 📗

В блокаду выдавали по 125 граммов хлеба. В хлеб добавляли целлюлозу. Самый большой паек получали рабочие, затем служащие и потом иждивенцы. Мама считалась служащей. Детскую карточку я получить, естественно, уже не могла. Мы варили студень из столярного клея, потом из ремней. Запах был безобразный. Когда я ела, зажимала нос.
Мама устроилась на работу еще перед началом войны, потому что папа платил деньги только на мое содержание. На Витебском вокзале было отделение перевозки почты, и она там накладные печатала на грузы, работала машинисткой. Я помню, что именно на Витебском вокзале был буфет. Поскольку мама там работала, у нее был пропуск, она меня водила в этот буфет, где можно было съесть пирожные. Это был сентябрь 1941 года. В магазинах уже ничего нельзя было купить. А потом этот пункт ликвидировали, и их соединили с Московским вокзалом. Витебский уже не функционировал, но на новом месте мама тоже работала в отделении перевозки почты.
Город бомбили 8 сентября. В восемь часов вечера вдруг воздушная тревога. Мы знали, что нужно иметь заплечные мешки с документами, сменой белья, подушкой. Все должны быть в бомбоубежищах. У нас было бомбоубежище в доме № 22 по Лермонтовскому проспекту, где мы жили, но, наверное, маленькое, мы туда не спускались. Но поскольку у нас была широкая лестница, которая спускалась полукругом и выходила на Лермонтовский проспект, во время бомбежки мы лежали на этих ступеньках. Впечатление жуткое. Вот летит бомба — ты слышишь и ждешь, что сейчас будет? Когда мы вышли после отбоя, то увидели невообразимое количество стекол, весь Лермонтовский был усеян ими. Он шел до улицы Декабристов, раньше еще Садовая улица его пересекала. Этот участок от Садовой до набережной Фонтанки был непроезжий. На Фонтанке был госпиталь для раненых; его разбомбили.
Помню зарево, все небо пылало, потому что горели Бадаевские склады с сахаром, продовольствием. Весь продовольственный запас был уничтожен. Помню, охватил страх: как дальше жить? Но человек привыкает ко всему. В восемь часов вечера можно было проверять часы по началу воздушной тревоги. Этот дотошный немец начинал регулярно бомбежку в 20 часов. Холод на улице уже был адский. У нас печное отопление, печку нечем топить и не приветствовалась вытяжка — сигнал, что здесь живут люди, которых нужно уничтожить. Поэтому мы приобрели «буржуйку», на ней готовили. Но «буржуйку» тоже надо было топить, поэтому жгли в основном мебель.
В первые месяцы блокады школы еще работали. Был такой холод, что замерзали чернила в чернильницах. Были такие чернильницы-непроливайки, мы в них обмакивали ручки с перьями № 86. Школу в то время было не узнать: никто не бегал, не прыгал, не смеялся — это все ушло. Все медленно ходили по коридору. Поднимались на второй этаж, сидели в классных комнатах, дрожали и ждали, когда наш класс вызовут в столовую. Столовая была на первом этаже, нам давали теплый дрожжевой суп — дрожжи, разведенные в воде и подсоленные, конечно, без хлеба. Многие дети приносили баночки с собой. А воспитательница или дежурный педагог смотрели, чтобы дети обязательно ели сами. Домой еду брать не разрешали. И такая ситуация была до декабря 1941 г., когда нам внезапно объявили: «Дети, больше в школу не ходите, дрожжевого супа не будет!» Вот так было в 1941 году. И дальше, фактически зимой 1941/42 г., школы не работали. Была попытка возобновить учебу в бомбоубежищах. Но, во-первых, было мало детей, чтобы разбивать их по классам. Во-вторых, мешали холод, голод, бомбежки. А вот весной на прополку морковки и других корнеплодов и затем на сбор урожая школьников уже посылали. Можно было доехать трамваем, они уже стали ходить. Во время блокады Ленинграда всех выживших детей собирали и посылали работать на огороды. Руководителем у нас была педагог-немка. Она заботилась о нас, подкармливая кусочками овощей, и даже разрешала взять домой по две штуки морковки или турнепса в зависимости от того, что мы пололи.
Мы с мамой жили на третьем этаже, в комнате с высоким потолком, как в старинных домах. За водой ходили на Фонтанку. Помню, там была булочная, она открывалась в 6 часов утра. Объявляли на неделю, когда можно выкупить хлеб по карточкам. Хлеб даже по 125 г бывал не каждый день. Как ни одевайся — холодно, люди надевали разные халаты, все, что было из теплого, а поверх уже пальто. Очередь занимали за час. На людей смотреть было страшно: все злые, голодные, щеки впалые, глаза огромные. Помню, был ужасный случай. Один мальчонка схватил у кого-то пайку хлеба с весов, покупатель не успел взять. К нему бросились, стали бить, а он эту пайку запихал себе в рот и проглотил.
Уже позже, после 41-го видела: люди шли, держась за парапет моста, некоторые останавливались, сползали и так оставались лежать без движения. Замерзали. Помню, шла на работу, вижу: мужчина лежит в валенках. Иду обратно, а валенок на нем уже нет. По городу ходили отряды ПВО, молодые девушки, подбирали покойников. В этих отрядах были кое-какие привилегии, паек давали побольше. Но на все случаи они не успевали. В нашей квартире было семь трупов. Мы с мамой одни выжили.
На Новый год, 6 января 1942 года, как раз в канун Рождества Христова (хотя о нем мало кто знал), устроили праздник в одной из школ Октябрьского района. Пригласили нас всех, оставшихся в живых. Детей в городе было мало: многие не двигались, лежали, кто-то погиб. Но эта блокадная елка запомнилась мне на всю жизнь. Елка стояла наряженная. В зале было натоплено, но дети были укутаны, никто не раздевался. С нетерпением ждали подарков, получив их, никто из детей их не ел — берегли для дома. Потом повели нас в столовую, накормили теплым супом и овсяным печеньем. Никто не плясал, не смеялся, хоровод вокруг елки не водили.
Шло время. Становилось все хуже и хуже. Запасы исчезали. Чтобы вы понимали, как это было: большая алюминиевая кастрюля на 4–6 литров ставилась на плиту-«буржуйку», в нее мама клала шесть столовых ложек пшена, немного соли, получалась скользкая масса — суп.

Потом, был такой момент, я уже лежала, она меня спрашивала:
— Женечка, тебе холодно?
— Не очень…
— Женечка, кушать хочешь?
— Не очень…

Силы уходили. И мама решила: надо двигаться. Мы ходили пешком до Никольских рядов, потом возвращались и только после этого позволяли себе обедать. Уже темно — зима, электричества нет. Зажигали светильник на лампадном масле или на касторовом, но касторовое жалели, мы его ели.

В январе 1942 г. все запасы истощились и у города, и у населения. Нас выручили несколько пакетиков какао, который мы разводили и пили. И внезапно вышло распоряжение выдать на Новый год подарки по ленд-лизу (пришли американские корабли с гуманитарной помощью): 300 г ветчины, колбаса, бутылочка растительного масла и что-то из одежды. Мне досталось приличное пальто с меховым воротником, я и после войны его носила. Но эта поддержка — ерунда, все быстро разошлось. Мало кого спасли эти «подарки».

Надо было решать: умирать или выжить. И мама взяла меня к себе на работу. Там как раз были устроены двухмесячные курсы для сортировщиков писем. По окончании курсов я работала сортировщицей. Сортировала в основном треугольники-письма с фронта. У меня была корреспонденция Урала и Сибири — самая большая. В октябре 42-го мне было 14 лет, я была очень маленькая ростом, на работе мне сделали скамеечку, чтобы я могла использовать верхние клетки стойки. В них помещалась корреспонденция по направлениям железных дорог и больших городов. Я очень старалась и перевыполняла норму, была на хорошем счету. Весной 43-го я, помимо работы, участвовала в очистке города. Когда снег растаял, обнажились человеческие отходы, надо было убирать, иначе могли возникнуть эпидемии. Но обошлось: наладили работу бань — рядом с нами были Усачевские бани, — и мы ходили туда. Правда, раздеваться было страшно, все худые, точно скелеты, наглядные пособия по анатомии.