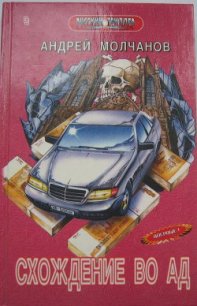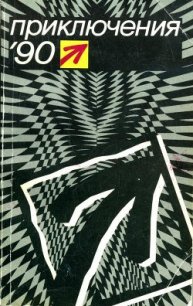Начнем с Высоцкого, или Путешествие в СССР… - Молчанов Андрей Алексеевич (книга бесплатный формат .txt, .fb2) 📗
— Да приезжайте ко мне, у меня объемный загашник, поищем, — откликнулся чеканный голос, произносящий каждое слово так, как я не слышал доныне — это был несомненно русский язык, но иной, века, скорее девятнадцатого, а не двадцатого, уж очень правильный, с подчеркнутыми ударениями, учтиво-изысканный…
Ученик Бунина, наставник Ильфа и Петрова, друг Булгакова… Я помчался к нему на дачу, сверкая подошвами.
Сухой статный старик с суровым лицом принял меня холодно, подчеркнуто вежливо, как редакционного курьера, однако мне удалось заинтересовать его нашей инициативой, он даже пробежался глазами по свежевыпеченной газетной странице с сатирическими виршами, затем предоставил мне архивные вырезки и чашку крепкого чая с печеньем.
— Сами-то пишете? — спросил без любопытства.
— Пытаюсь…
— Ну-ну…
Газету с его «Козлом в огороде» я не поленился привезти ему лично, даже показал пару своих рассказов, воспринятых им со снисходительным равнодушием, но затем, подумав, он сказал:
— В вас есть наблюдательность, чувство слова… Но вам надо определиться. Вы говорите, что хотите писать прозу? Если так, то эти сатирические вирши — ваш подступ к ней, первый класс школы. Это важный класс. Маленький рассказ включает в себя все: четкий сюжет, отрицание многословия, желательность парадоксального финала, основную идею и сверхзадачу. Все это надо уложить в две-три страницы. Для романа в триста страниц принцип остается тот же. Но его следует отработать на малых формах. Я начинал с того же. И Булгаков, и Ильф с Петровым, и тот же Чехов… То есть, если вы думаете о большой прозе, первоначально вам надо освоить технику этюда…
— Вообще-то, у меня задуман роман…
Он откинулся в кресле, расплывшись в улыбке:
— И о чем?
Я рассказал.
— Ну, любопытно… Дерзайте.
— А показать вам отрывки, посоветоваться, вы позволите?
— Ну, почему бы нет? Продолжу свою карьеру главного редактора журнала «Юность» в отставке… Да! — он привстал, дотянулся до конверта, лежащего на столешнице буфета. — Мой вам подарок. Завтра в Центральном доме литераторов премьера фильма «Не может быть!» по рассказам Зощенко. Это — ваш пригласительный. Я тоже там буду, увидимся.
Следующим днем я поехал в ЦДЛ на премьеру. У входа в недосягаемый для меня закрытый писательский клуб, стояли, покуривая, Константин Симонов и Ираклий Андроников — небожители, мимо которых, кивнувших рассеянно на мое подобострастное «здрасьте», я прошел в очаг литературно-киношного бомонда.
Знаменитостей в зале набилась куча, и я, млея, сидел среди них, вспоминая, может быть, не к месту, зону, зэков, казарменные бараки, задубелые руки солдат… Как они там, бедолаги, в продуваемых всеми ветрами степях?
Вступительное слово к фильму дали Катаеву. Я сидел, замирая в восторге от его рассказа о Зощенко, о двадцатых годах, заслоненных уже полувековой историей, и поверить не мог, что еще вчера находился, попивая чаек напротив этого человека, громады, к которому теперь мог приехать домой, как гость, и кто сподобился даже помахать мне рукой со сцены, узрев мою скромную личность среди круговорота сиятельных, известных всей стране, персон.
Я написал около пяти глав своего «Нового года в октябре», приехав с ними к нему в Переделкино. Хотел оставить рукопись, но мэтр сразу принялся за чтение. Затем взял карандаш, кивнул мне стул:
— Рядом садитесь!
А дальше пошел разнос.
Он цеплялся за каждую фразу, он перечеркивал и правил абзацы, виртуозно менял слова, поливая мои промахи неумехи, неточности определений и многословие, ядовитыми комментариями, падающие бальзамом мне на душу, ибо, как опытный портной, он увидел перед собой материал, нуждающийся в перекройке и глажении, но достойный для будущей полноценной вещи, где каждый стежок пригонится к последующему стежку…
— Вы — широко необразованный человек! — говорил он. — И грешите безвкусицей, вам надо через абзац давать линейкой по рукам, как говорил покойный Бунин. Кстати, в отношении меня… И еще: вам надо читать поэзию. Вы совершенно ее не знаете, а это — фундамент прозы. Если в прозе нет поэтики стиха, это просто слова. Поэтом можешь ты не быть, но жить поэзией обязан! Так, — он перевернул лист, — следуем далее по следам ваших литературных испражнений, простите, упражнений…
Через год, в очередной мой визит к нему, смотреть рукопись он не стал, сказал:
— Почитайте вслух.
Я прочел сцену «Ванечка и Прошин».
Он сидел, раскачиваясь в кресле в такт моим фразам, с непроницаемым отвердевшим лицом. Когда я закончил, произнес веско, с ноткой удивления:
— Хорошо!
Гонорары в «Московском комсомольце» были стабильными, но хилыми, и, прийдя к выводу, что большие люди должны иметь большие деньги, а маленькие — много маленьких, я печатался в периферийных газетах, с удовольствием, хотя и за гроши, публиковавших столичных авторов, а, кроме того, Лева Новоженов, крутившийся в Останкино, где впоследствии стал популярным телеведущим, оказал мне протекцию на Гостелерадио, в редакции развлекательных программ, познакомив меня с ответственным тамошним начальником — Сашей Вячкилевым, также пописывающим сатиру и вхожим в наш круг.
От Саши зависело многое. Он ставил в эфир рассказы, зачитываемые известными актерами, курировал «сетку» передач и распоряжался заявками на сценарии, чье воплощение в текст, далее зачитываемый дикторами, оценивался в авторские гонорары, эквивалентные средней зарплате младшего научного сотрудника.
От чиновной, чисто выбритой пропагандистской братии, щеголявшей в костюмах и галстуках, Саша резко отличался своим внешним видом: был длинноволос, обильно бородат, ходил по учреждению в потертых мешковатых джинсах, вязаных кофтах, свитерах, и чем-то напоминал лешего среди блистательных русалок — подчиненных ему музыкальных и литературных редакторш, одетых по последним парижским модам, в золоте колец и обрамлении замысловатых причесок. Старшей среди редакторш была элегантная Регина Дубовицкая, ежедневно отбивавшаяся от ухаживаний местной наглющей журналистской братии.
Вскоре подсобная работенка на радио превратилась в сытую, но ненавистную поденщину. Однако затягивающую в свой омут необходимыми для жизни дивидендами. Кроме того, я успел жениться, устроиться на стабильную службу в организацию «Интеркосмос», и теперь от меня требовалось содержать семью, машину, откладывать деньги на отпуск и задаривать начальство на основной работе, дабы оно сквозь пальцы смотрело на мой более чем вольный график посещения службы и ставило визы на мои выездные документы в заграничные командировки в качестве переводчика с английского. Язык я знал с детства, благодаря усилиям родителей, тянулся к его глубокому изучению постоянно, а, кроме того, покрутившись в среде высококвалифицированных технарей, работавших у отца в конструкторском бюро, перенял у них массу специфических терминов, а потому считался переводчиком жизненно необходимым в отличие от иных, хорошо язык знавших, но в потрохах космической аппаратуры и ее устройстве не разбиравшихся в принципе. Мной же эти знания, пусть и поверхностные, усваивались органично, походя.
Очередное утро. За окном — зима, черные стволы деревьев, паутина ветвей на серо-голубом фоне зари… Гашу настольную лампу. Рассветные сумерки лилово ложатся на лист бумаги.
Сижу, с озлоблением сочиняя «подводку» к радиопередачке, должной сегодня до полудня оказаться перед очами редактора. «Подводки» — это то, что слащавыми голосами повествуют ведущие в интервалах между рассказиками, байками и песенками, передачку составляющими. Если рассказик, к примеру, содержит идейку труда и лени, как тот, что я выбрал сейчас, то предварительно и вскользь следует намекнуть, что речь пойдет о труде и противлении труду и, последнее — плохо. При этом желательно, чтобы в «подводке» присутствовала репризочка, пословица или же краткое соображение по данному поводу некоего писателя или философа, что ценится порой дороже легкомысленной репризы.
В шпаргалке, именуемой сборником «Крылатые слова», ничего подходящего не обнаруживается.