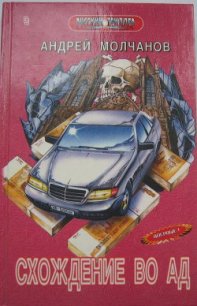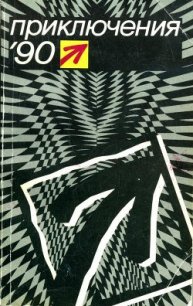Начнем с Высоцкого, или Путешествие в СССР… - Молчанов Андрей Алексеевич (книга бесплатный формат .txt, .fb2) 📗
В аудитории пусто, если не считать одного маленького, худенького человечка в черном костюмчике, с благородными залысинами, слезящимися глазками, почти прозрачными за толстенными стеклами очков в тонкой, возможно, золотой, оправе. Выясняется: это экзаменатор. Так! Беру билет и обреченно уясняю: влип. Знаний по предложенным мне вопросам не набирается и на балл. Я тихо грущу, представляя разговор с деканом. В этот момент появляется еще один экзаменатор: благообразная старушенция в строгом похоронном платье, со строгим лицом и вообще крайне строгая. Старушенция усаживается в другом конце аудитории, веером раскладывает на столе перед собой билеты и, выпятив подбородок, замирает как сфинкс.
Дверь вновь открывается, но на сей раз входит не педагог, а такой же, как я, двоечник. По-моему, с младшего курса. На вид — лет двадцать пять. Затертый свитер, затрапезные брючки, опухшее малиновое лицо и — неудающееся стремление выглядеть трезвым.
— Античную литературу… — бросает он хрипло и с вызовом. — Сюда?
Человечек, возможно, в золотых очках, пугливо вздрагивает, а строгая старушенция призывно машет рукой и скрипит, что это, мол, к ней.
Нетвердо ступая, парень идет на зов, водит пятерней в воздухе и опускает ее на билеты, вытаскивая сразу три и столько же роняя на пол.
— Вам нужен один билет, — сообщает старушенция, и остальные бумажки ей возвращаются.
— Без-з подготовки! — произносит парень эффектно. — Плавт!
— Ну, — осторожно вступает старуха, — о чем же писал Плавт?
Вытаращив глаза, студент обводит потерянным взглядом углы аудитории, размышляя.
— Плавт, — выжимает он слово за словом, — писал… о туберкулезе.
Преподаватель моргает. Вернее, моргают оба преподавателя, причем так усиленно, будто переговариваются между собой некоей азбукой Морзе.
— Обоснуйте… — изумляется старуха.
— Зачем, — с тоской произносит допрашиваемый, — я стану рассказывать вам, такой… молодой, цветущей женщине, о туберкулезе? Давайте лучше лирику почитаю…
Оцениваю обстановку. Кажется, самое время идти отвечать. Я подсаживаюсь к золотым очкам и начинаю сбивчивую речь. Экзаменатор мой, как и следует ожидать, слушает не меня, а диалог из другого конца аудитории. Это интереснее, понимаю.
— Лирику? — в испуге непонимания бормочет античная бабушка. — Какую? Древнюю?
— Са… фо! — доносится мечтательное. — Или нет… может, Мандельштама, а?
— Второй вопрос, — нагло говорю я.
— Да, да… — рассеянно кивают очки.
— Назовите хотя бы одно произведение Плавта! — Бабушка, похоже, начинает приходить в себя и, более того, начинает сердиться. Развязка близка.
Я мелю откровенную чепуху, бросая взгляд на парня. Тот, двигая челюстью, думает…
— Ну, а что писал Плавт? — слышится сзади настойчиво. — Стихи, прозу?
— Ну… и все, — быстренько произношу я и честно смотрю в очки.
— Послушайте, — хрипло говорит парень, тоже раздражаясь. — Вы меня спрашиваете так, будто я профессор!
Мой экзаменатор потерянным жестом раскрывает зачетку и пишет в ней «хор».
— Вы меня извините, — начинает старушенция мелодраматически, но я уже не слушаю и, мысленно благодаря коллегу по несчастью, покидаю аудиторию.
Я застегиваю куртку и вижу, как по коридору идет спасший меня антик-великомученик. По лицу его бродит бессмысленная улыбка. Он лезет в карман, достает зачетку, раскрывает ее и, удостоверясь, что оценка «уд.» и подпись экзаменатора на месте и это не приснилось, мотает головой от удивления, усталости и восторга.
— Отстрелялся? — вопрошаю я холодно.
— Это было такое! — сообщается мне со страстью и с нецензурными словами. — Теперь — стакан!
Интересно, а ради чего высшее образование получает этот вот друг изящной словесности? Спросить не спросишь, но все-таки любопытно.
Я сажусь в разбитую машину-труженицу и смотрю сквозь запорошенное поземкой стекло в пространство. Впереди куча дел. Сейчас — в «Московский комсомолец».
А там — скандал. Один из авторов нашей сатирической страницы, пописывающий еще и разного рода статейки о комсомольцах-ударниках, договорился с какой-то девицей, поступающей на журфак МГУ и нуждающейся для прохождения конкурса в публикациях, поставить ее имя под парой статей, обозначив это, как свой временный псевдоним. Конечно, за кругленькую сумму. Девица проболталась об афере подругам, благополучно ее заложившим, дело дошло до ЦК комсомола и теперь в газете шуровала карательная комиссия.
Единственное, что я сумел сделать в этой нервозной обстановке — подклеить в готовую верстку полосы афоризм от Сашки Вячкилева, также грешащего сочинительством:
«Есть многое на свете, друг Горацио, что заглушают грохотом оваций…»
Накрутив телефонный диск, сообщил ему об этом его готовящемся к печати творческом достижении.
— Сегодня вечером, старичок, — пропыхтел он в ответ, — твоя передачка будет в эфире. Выписал тебе по верхней планке: сто пять рублей!
— За мной тоже всегда будет на всю катушку! — на одном дыхании, весело и громко отозвался я, и на том наш во всех отношениях приятный разговор закончился.
Я почувствовал, что погружаюсь в пропасть какой-то мелкотравчатой суеты. И — внезапно решилось: долой это радио — большой информационный унитаз, долой «Московский комсомолец» с его ежевечерними пьянками и шелухой публикаций-однодневок, ты приобрел опыт, знания, пора заняться делом. А дело — это роман.
Армия. Станица Николаевская
До нового моего места службы, от одной зоны до другой, добирались разбитыми грунтовыми дорогами, петляющими по благоухающей, словно политой одеколонами, от разноцветья трав, степи. Даже не верилось, что вскоре осенние морозы и ветра выстелят ее пожухлой осклизлой соломой, вбитой в землю ледяными дождями.
Новая зона делилась на два объекта: жилой и рабочий. Рабочий представлял собой строящийся на берегу Дона огромный шлюз и тянулся едва ли не на два километра по берегу, замкнутый криво обтекающим его территорию забором с теремками вышек.
«Газик» подрулил к КП жилой зоны, возле которой толклись, о чем-то беседуя, офицеры из администрации и охраны.
— Вот твой начальник, Федяевский, — указал мне майор на одного из них — бойкого, чувствовалось, капитана, горячо о чем-то повествующего своему коллеге подполковнику, судя по званию, начальнику лагеря, то бишь — «хозяину».
Я подошел к капитану, представился: прибыл, мол, для дальнейшего прохождения…
Федяевский — невысокого роста, кривоногий, в хромовых сапогах, с курчавым чубчиком, выбивающимся из-под козырька фуражки, с простецким пролетарским лицом, воспаленным от ежедневной, чувствовалось, пьянки, уставился на меня выцветшими голубенькими глазками. Сказал, едва ли не с восторгом в голосе:
— Вот это я понимаю! По выправке видно — человек с опытом, образование — все десять классов, верно?
— Так точно!
— Откуда сам?
— Из Москвы!
— О, из самой столицы!
Я передал ему пакет с «сопроводиловкой».
— Тэк-с… — он надорвал запечатанный край и вытащил бумаги. Зачитал, с каждым словом слабея голосом. — Игнорирует приказы командиров, замечен в связях с осужденными, передаче им запрещенных предметов и средств, не рекомендуется допускать к ношению оружия… — взгляд капитана приобрел признаки глубокой растерянности. Затем с хищным прищуром устремился на меня. Пакет полетел под ноги и, ожесточенно топча его сапогами, Федяевский заорал. — Кого, суки, прислали! Это же — какая подлянка! — и, тыча мне в грудь пальцем, истово качая головой, поклялся. — Я тебя посажу! Видит Бог и министр! Отсюда поедешь на нары! — он полез в карман, вытащив партбилет. — Вот! — произнес драматически. — Присягаю тебе самым главным документом! Десять лет — это минимум!
— Разрешите идти, товарищ капитан? — смиренно вопросил я.
— И чтобы тебя не было видно нам на километр в округе! — последовал ответ, а вслед за этим — трехэтажная матерная конструкция.
Пока мой новый командир с упоением тетерева сотрясал степное пространство ненормативной лексикой, я сдал вещи старшине роты, выбрал себе кровать, согнав с уютного места какого-то бойца, беспрекословно подчинившегося моему велению, подкрепленному званием и выслугой, подправил покосившуюся дверцу на личной тумбочке, ибо тумбочка, по словам старшины из учебки — лицо солдата; а после отправился в караулку жилой зоны, где меня ожидал очередной сюрприз: колония строгого режима была буквально опутана новейшими средствами сигнализации: тут были и радиолучевые датчики, и телеемкостная система, и проволочные заграждения с высоким импульсным напряжением…